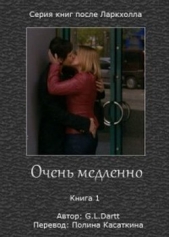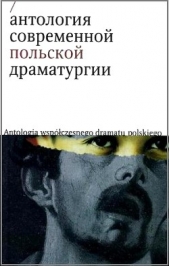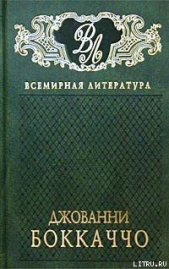Шпион в доме любви. Дельта Венеры
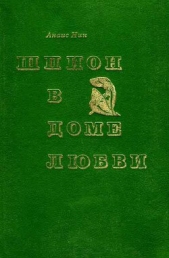
Шпион в доме любви. Дельта Венеры читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У нее возник соблазн нарушить их вежливость, разбить своей экстравагантностью полированную поверхность этой безмятежности. Когда она стряхнула пепел с сигареты на свою сумочку, индуистское кольцо, подаренное ей Филипом, зазвенело, и бледнолицый барабанщик повернулся к ней и улыбнулся, словно этот слабый звук был неадекватным ответом на его барабанный бой.
Когда он вернулся к пению, между их глазами уже сплелась невидимая паутина. Теперь она смотрела не на его руки, прыгающие по барабанной коже, а на рот. У него были полные губы, сочно, но твердо очерченные, а дергал он их так, словно преподносил фрукт. Они никогда плотно не сжимались и не растягивались, но оставались в состоянии готовности.
Его пение преподносилось ей в кубке его рта, и она пила его решительно, не проливая ни капли этих страстных чар. Каждый звук был прикосновением его рта к ее губам. Пение становилось все более экзальтированным, гул барабанов — глубже и острее; он лился на ее сердце и тело. Бум-бум-бум-бум-бум на ее сердце, она сама уже была барабаном, кожа была упруга под его руками, гул вибрировал во всем ее теле. На чем бы ни останавливался взгляд мужчины, она чувствовала постукивания его, пальцев по своему животу, груди и бедрам. Его взгляд упал на ее босые ноги в сандалиях, и те ответили ритмичным притоптыванием. Взгляд упал на точеную талию, под которой начинались округлые бедра, и она почувствовала себя в распоряжении его песни. Когда он перестал бить, руки его остались лежать на коже барабанов, словно он не хотел отнимать их от ее тела; они продолжали смотреть друг на друга, а потом отвернулись, как будто испугавшись того, что все увидят страсть, растекавшуюся между ними.
Однако, когда они начали танцевать, он изменился. Его колени откровенно, с какой-то неотвратимостью оказывались между ее, словно внедряя непреклонность его страсти. Он крепко держал ее, обнимая так, что каждое их движение выполнялось как бы одним телом. Он прижимал ее голову к своей с физической предельностью, словно это должно было продолжаться вечно. Его страсть стала центром притяжения, окончательной спайкой. Ростом он был не выше ее, однако держался гордо, и когда она поднимала на него глаза, его взгляд проникал в самое ее существо, проникал с такой чувствительной прямотой, что она не могла вынести этого сияния, этой претензии. Возбуждение озаряло его лицо лунным светом. В то же самое время возникала странная волна злобы, которую она ощутила, но не поняла.
Когда танец закончился, его поклон был прощанием, таким же предельным, как и предыдущая страсть.
Она ждала в муке и недоумении.
Он возвратился к своим песням и барабанам, однако ей их больше не предлагал.
И все-таки она знала, что он хотел ее. Но зачем он это теперь разрушает? Зачем?
Она так страшно разволновалась, что решила остановить барабанщиков, остановить танцующих. Однако она проверила этот порыв и почувствовала, что тем самым только отдалит его от себя. Тут была его гордость. Тут была эта его странная смесь пассивности и агрессивности. В музыке он был объят огнем, мягок и открыт; в танце — деспотичен. Ей надлежало ждать. Ей надлежало уважать ритуал.
Музыка прекратилась, он подошел к ее столику, сел и улыбнулся ей. Улыбка получилась болезненной.
— Я знаю, — сказал он. — Знаю…
— Знаете?..
— Знаю, но этого не может быть, — проговорил он очень тихо. А потом с неожиданной злостью добавил: — По мне, либо все, либо ничего. Я знал это раньше… женщина вроде вас. Страсть. Это страсть, но не для меня. Вы меня не знаете. Для моей расы, для той чувственной силы, которая в нас заключена, — да.
Он взял ее за кисти и сказал, приблизив к ней лицо:
— Она разрушает меня. Страсть повсюду, в крайней степени отдачи, ухода. Потому что я африканец. Что вам обо мне известно? Я пою, стучу в барабаны, и вы хотите меня. Но я не какой-нибудь там развлекатель. Я математик, композитор, писатель.
Он строго посмотрел на нее: полноту его губ трудно было поджать в озлобленности, однако глаза сверкали.
— Вы ведь не отправитесь на Ile Joyeuse, не станете моей женой, не родите мне черных детей и не нанесете визит моей матери-негритянке!
Сабина отбросила с лица пряди и ответила ему с такой же горячностью, понижая голос, пока он не зазвучал как оскорбление:
— Вот что я вам скажу: если бы речь шла только о том, на что вы намекаете, я это испытала, и это не овладело мной, этого было недостаточно, это было великолепно, но не овладело мной. Вы все портите своей горечью, вы злы, вас уязвили…
— Да, вы правы, меня уязвили, и это сделала женщина, похожая на вас. Когда вы только вошли, я решил, будто это она…
— Меня зовут Сабина.
— Я не верю вам, не верю совершенно.
Но когда она поднялась, чтобы потанцевать с ним, он распахнул объятия, а когда она склонилась головой ему на плечо, посмотрел вниз на ее лицо, и во взгляде его не было уже ни злобы, ни горечи.
Студия Мамбо находилась на Патчен Плэйс, улице без исхода. Железная ограда наполовину блокировала вход на нее, напоминавший вход в тюрьму. Это ощущение указания свыше, при котором любое отступление в личностном плане рассматривалось как проявление эксцентричности и симптомов упадка, усиливалось похожими друг на друга домами.
Сабина ненавидела эту улицу. Она всегда представлялась ей ловушкой. Она была уверена в том, что детектор лжи засек, как она вошла в ворота, и теперь будет ждать ее обратного появления. А ведь ему бы ничего не стоило выяснить, кто там живет, кого она навещает, из какого дома она выходит утром.
Она представила себе, как он обследует каждый дом, читая все имена на почтовых ящиках: Е. Е. Каммингс, Джуна Барнес, Мамбо из ночного клуба Мамбо, известного всем.
На рассвете детектор лжи сам увидит ее выходящей из дома, кутающейся в плащ из-за утренней пронзительности, волосы расчесаны как попало, глаза еще не совсем открыты.
Именно на этой улице и ни на какой другой.
Однажды в начале лета она была разбужена болезненным напряжением нервов. Все окна были открыты. Уже почти рассвело. Улочка была совершенно тиха. Сабина слышала шуршание листвы на деревьях. Потом завопила кошка. Почему же она проснулась? Почувствовала какую-то опасность? Или Алан притаился в засаде у ворот?
Она услышала женский голос, отчетливо кричавший:
— Бетти! Бетти!
На что другой голос приглушенно отозвался:
— Ну чего там?
— Бетти, там в дверях прячется какой-то мужчина. Я видела, как он прокрался внутрь.
— Хорошо… и что ты хочешь от меня? Он просто нализался и теперь топает домой.
— Нет, Бетти. Когда я перегнулась через подоконник, он попытался укрыться. Попроси Тома сходить посмотреть. Мне страшно.
— Ох, да не будь ты ребенком! Иди спать. Том вчера допоздна заработался. Я не могу его будить. А что до того мужчины, так он же не войдет, пока ты не нажмешь на кнопку и не впустишь его!
— Но он будет там, когда я пойду на работу. Он будет стоять и ждать. Позови Тома.
— Иди спать.
Сабина затрепетала. Она была уверена в том, что это Алан. Алан ждет ее внизу, хочет увидеть, как она будет выходить. Для нее это было равносильно концу света. Алан являлся ядром ее жизни. Остальные мгновения страсти были мгновениями сна: бестелесными и исчезающими, не успев появиться. Но если Алан отвергнет ее, для Сабины это — смерть. Ее существование в глазах Алана было ее единственным реальным существованием. Сказать «Алан меня бросил» было все равно что сказать «Алан меня убил».
В начале ночи ласки были восхитительны, как многоцветные всполохи искусного фейерверка, взрывы лопающихся солнц и неонов внутри тела, летящие кометы, нацеленные во все центры удовольствия, стреляющие звезды пронзительной радости, и все-таки если бы она сказала: «Я останусь здесь и буду всегда жить с Мамбо», это было бы похоже на тех детей, которых она видела, пытающихся устоять под дождем искр от фейерверка. Искры жили всего какое-то мгновение, а потом покрывали детвору пеплом.