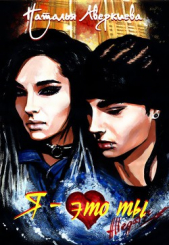Приблудяне (сборник)

Приблудяне (сборник) читать книгу онлайн
В новую книгу лауреата премии Европейской ассоциации писателей-фантастов вошли повести и рассказы, которые в большинстве своем можно отнести к сатирической фантастике. Уже известные читателям повести «Земля» и «ТП», иронический цикл «Про Игоряшу», а так же впервые публикуемые «Приблудяне» и другие произведения автора — направленные против пороков нашего общества.
Сборник входит в книжную серию «Альфа-фантастика».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
15. Мы въехали в курительную. Здесь было сравнительно скромно: низкий столик и три или четыре глубоких кресла. Больше ничего, если исключить головизор и шкафчик, где сигареты и сигары были разложены по сортам.
На креслах стоит остановиться подробнее. Они были выполнены в виде сложенной лодочкой человеческой ладони. Снаружи их покрывала натуральная замша, внутренность выстилал гагачий пух, а основанием служили массивные кубы намеренно грубо шлифованного темно-синего стекла. Возле каждого кресла стояла маленькая скамеечка для ног, также обитая натуральной замшей и покрытая сверху крохотной циновкой из подпуши лебедя-трубача.
На этом этаже комнаты располагались анфиладой. Если встать в курительной лицом к витражному окну (Леже), то влево открывалась дверь в библиотеку и далее в кабинет, а справа находились ломберная и бильярдная.
В кабинете размещались массивный письменный стол с бюварами, наборами шариковых ручек и фломастеров, телефонами, терминалом, внутренней селекторной связью, видеофоном и пневмопочтой; два высоких стеллажа с необходимейшими книгами; средних размеров сейф; стереопроигрыватель (плюс дискотека классической музыки); телевизор с полутораметровой диагональю экрана; видеомагнитофон с прекрасным набором кассет, на которых были записаны лучшие произведения мирового кинематографа, и небольшой личный бар-холодильник.
Стеллаж за моим креслом раздвигался и открывал винтовую лестницу, соединявшую кабинет со спальней, гостиной, зимним садом, а также гаражом в подвальной части дома.
О библиотеке трудно сказать что-либо, кроме того, что она содержала пятьдесят тысяч томов художественной литературы на четырех языках и такое же количество трудов по философии, экономике, менеджменту, эстетике, праву, социологии, истории, психологии, политике, коммунизму и антикоммунизму, литературоведению, этимологии, искусствоведению и сравнительной лингвистике. Библиотека располагалась в высоченном зале с хорами и была снабжена безупречно составленной картотекой.
Ломберная поначалу казалась довольно мрачной, и этому в большой степени содействовала рустовка на стенах. Однако по некоторому размышлению можно было прийти к выводу, что это даже хорошо, поскольку в такой обстановке ничего не отвлекало от игры, а тщательный осмотр комнаты показал, что под рустовкой скрывалась отопительная система. У ломберного столика откидывалась крышка, и под ней обнаружилась стопка изящно разграфленных пулек, несколько нераспечатанных колод.
Бильярдную можно было бы вовсе не описывать и оставить без внимания, если бы не маленький инцидент, разыгравшийся там. Моя жена с плачем поникла на бильярдный стол, случайно зацепив при этом резную стойку с киями. Кии рассыпались по полу с неприятным треском.
— Что с тобой, милая? — в который раз вскричал я.
— Когда же это кончится! — всхлипывала она. — Уведи меня отсюда, ради всего святого, уведи, прошу тебя!
— Ты что, до сих пор не веришь, что все это принадлежит нам? — продолжал не понимать я.
— Верю, верю, верю, тысячу раз верю. Но лучше уйдем, уйдем же! В комнату вошел представитель СУ и, мрачно ворча, стал собирать разбросанные кии.
— Вперед, вперед, — подтолкнул он нас к выходу. — Наверху вас дожидается маленький сюрприз.
16. Долго мы так ехали или нет — не знаю, однако внезапно раздался звук «плоп», я почувствовал, что влажные объятия отпустили меня, и полетел вниз.
Упал я на мою верную подругу, которая барахталась на дне в зловонной жиже. Мы выпрямились во весь рост и снова зажгли фонари. Было очень жарко и невыносимо душно. Ноги по колено утопали в какой-то омерзительной слизи кирпично-травяного цвета. Я поспешил зажать нос платком. Моя верная подруга последовала моему примеру.
Пещера, в которую мы попали на этот раз, имела скорее цилиндрическую, чем круглую форму. Высоко над нами чернело отверстие, через которое мы свалились сюда. От краев дыры брали свое начало стены, покрытые отвратительнейшей желтой слизью с фиолетовыми разводами. Моя верная подруга ткнула в ближайшую стенку пальцем и тут же вскрикнула: палец обожгло огнем, а на подушечке начал расти волдырь. Я взглянул вниз и обмер: мои брюки, до середины голени ушедшие в мерзкую жижу, моментально облиняли, обветшали и стали похожи на кисею. Эта самая жижа успешно разъедала их, и я понял, что меня ожидает перспектива остаться в шортах.
С трудом вытаскивая ноги из чавкающей трясины, мы прошли несколько шагов и очутились у привратника.
— И не присядешь ведь, — вслух размышляла моя верная подруга, задумчиво осматривая сфинктер. Я тоже загляделся на массивные кольцевые бугры, что напряженно блестели в свете фонарей.
Наверное, каким-то восьмым или девятым чувством я уловил слабое колыхание, поднял голову и, даже не успев толком сообразить что к чему, завизжал: «Назад! Немедленно назад!» Стенки пещеры волнообразно сокращались по направлению к привратнику. Я вгляделся: кольцо жома размыкалось.
17. Снова книга, раскрытая наугад. Это труды академика Е. В. Тарле. «Очерк развития философии истории» — вводная часть курса по всеобщей истории, который Евгений Викторович читал в 1908 году студентам Психоневрологического института в Петербурге.
— Анфиса, ты не занята? — громко зову я.
— Ну что тебе? — Раздраженная Анфиса входит в комнату, в руках у нее мокрые пеленки.
— Послушай. «История творится человечеством; в этом творчестве какой-то прогресс, бесспорно, замечается, однако путь этого прогресса по меньшей мере странен — пять шагов вперед, три шага назад». Каково, а?
— Кто сказал?
— Академик Тарле.
— А он уже был академиком, когда считал эти шаги? — Анфиса с иронией смотрит на меня и выкручивает пеленки, вода течет прямо на металлопластиковый пол.
— Понятия не имею. Сейчас посмотрю. Так, академиком он стал в двадцать седьмом, то есть девятнадцать лет спустя.
— И сколько же ему было, родимому? — Я чувствую, что ирония внутри Анфисы уже перегорает в желчь.
— Тридцать четыре года.
— Тьфу! — Анфиса с треском шлепает пеленки на стол и выходит в кухню. Почему-то в последнее время возраст автора стал для нее важнейшей характеристикой при оценке произведения науки или искусства.
Я продолжаю читать Тарле:
«И до настоящего времени историческая мысль смущается этим противоречием. Какая-то настойчивая объективная целесообразность и вместе с тем совершенно нелепый, совершенно иррациональный путь, по которому совершается движение к цели…»
— Да ты сам-то как думаешь, — Анфиса снова появляется в дверях, — у нас сейчас которые шаги — те, что пять вперед, или три назад?
Я совершенно сбит с толку этим вопросом.
— Полагаю, мы в точке перелома, — осторожно отвечаю, пытаясь сообразить, перелом — от чего к чему?
— А по-моему, у нас вся жизнь — сплошные переломы, — бросает Анфиса. — Все ломают, ломают… Историю переписывают, переписывают… Никак понять не могут, что история — это действительно прогресс: она всегда о будущем. Но не обязательно о будущем розовощеком и пышнотелом. История подсказывает нам не только то, что в будущем должно быть, но и то, от чего нужно немедленно освобождаться. Подумать только, мы тащим из прошлого в будущее огромный балласт, тяжеленный груз косности, предубеждений, недоверия, страхов, взаимного непонимания, глухоты к ближнему, насилия, рабства и раболепия, чинопочитания, унизительной зависимости от старших и сильных, предательств, измен… Бедные историки и литераторы!.. Когда они пишут, что всего этого уже нет, получается фальшь. Когда они пишут, что все это еще сохраняется и надо поскорее избавиться от бремени, их обвиняют в очернительстве и измене идеалам.
— Подожди, подожди, — перебиваю я. — Не надо мазать всех одним миром. Художники — люди свободные. О чем хотят — о том и пишут. В отличие от историков.
— То-то и заметно, — ядовито усмехается Анфиса. — Пансионер ты мой ненаглядный. Только на пансион и зарабатываешь. А что купить — так это мне приходится вкалывать. Твоими писаниями все ящики стола, все антресоли, все свободные углы забиты. И сколько из всего этого напечатано? То-то же… «Здесь автор недоосознал, там автор недооценил, тут перегнул, на пятьдесят восьмой странице проявил близорукость…» Когда же эти идиоты-рецензенты, эти вершители литературных судеб научатся понимать, что рукой писателя всегда водит Социум? Что если он пишет обидные и даже враждебные вещи, то, значит, Общество заслуживает этого, ибо вся ответственность за воспитание художника лежит на его плечах. Что взлеты и достижения писателя — всегда заслуга личного таланта, а ошибки и заблуждения — всегда грехи Общества? Когда же они поймут это, а? Ведь на протяжении всей истории почему-то считается наоборот…