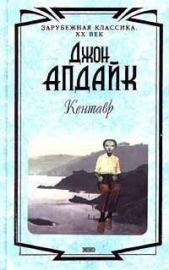Кентавр
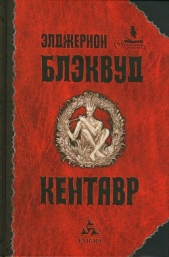
Кентавр читать книгу онлайн
Umbram fugat veritas (Тень бежит истины — лат.) — этот посвятительный девиз, полученный в Храме Исиды-Урании герметического ордена Золотой Зари в 1900 г., Элджернон Блэквуд (1869–1951) в полной мере воплотил в своем творчестве, проливая свет истины на такие темные иррациональные области человеческого духа, как восходящее к праисторическим истокам традиционное жреческое знание и оргиастические мистерии древних египтян, как проникнутые пантеистическим мировоззрением кровавые друидические практики и шаманские обряды североамериканских индейцев, как безумные дионисийские культы Средиземноморья и мрачные оккультные ритуалы с их вторгающимися из потустороннего паранормальными феноменами. Свидетельством тому настоящий сборник никогда раньше не переводившихся на русский язык избранных произведений английского писателя, среди которых прежде всего следует отметить роман «Кентавр»: здесь с особой силой прозвучала тема «расширения сознания», доминирующая в том сокровенном опусе, который, по мнению автора, прошедшего в 1923 г. эзотерическую школу Г. Гурджиева, отворял врата иной реальности, позволяя войти в мир древнегреческих мифов.
«Даже речи не может идти о сомнениях в даровании мистера Блэквуда, — писал Х. Лавкрафт в статье «Сверхъестественный ужас в литературе», — ибо еще никто с таким искусством, серьезностью и доскональной точностью не передавал обертона некоей пугающей странности повседневной жизни, никто со столь сверхъестественной интуицией не слагал деталь к детали, дабы вызвать чувства и ощущения, помогающие преодолеть переход из реального мира в мир потусторонний. Лучше других он понимает, что чувствительные, утонченные люди всегда живут где-то на границе грез и что почти никакой разницы между образами, созданными реальным миром и миром фантазий нет».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы миновали гротескное сооружение напротив Альберт-холла [74], ярко высвеченное последним лучом заката, О’Мэлли содрогнулся. Мы еще находились под очарованием сияющего сицилианского полдня в каюте парохода, и двойной конус Этны, казалось, возвышался за золочеными шпилями безвкусного мемориала. Я бросил взгляд на приятеля. Его голубые глаза сияли отражением иного заката — над забытыми, древними, далекими сценами юности мира.
Облик друга таил в себе во время этой молчаливой прогулки до дома особую магию, мы оба не проронили ни слова, чтобы не нарушить ее. Из-под его широкополой старой шляпы выбивались нестриженые волосы, а выцветший сюртук серой фланели был словно тронут сумеречными тенями от диких олив. Заметил я и заостренную форму его ушей, кончики которых исчезали под волосами. Походка Теренса была пружинистой, легкой, неслышной, как если бы он двигался по травянистому покрову, а отпрыгнув в сторону, попал бы не под колеса автобуса, а в заросли папоротников на мягком мху. Разворот его плеч совсем не подходил квадратам улиц и домов. По прихоти фантазии перед моим умственным взором предстал фавн, который пробирался по лесным полянам попить из озерка, а в памяти всплыли строки Элис Корбин [75], которые я стал нашептывать вслед О’Мэлли:
Все это оттого, что, пока его ноги шагали по Хилл-стрит и Монпелье-сквер, мыслями и духом он витал в призрачном саду начала времен, которого неизменно жаждал. А я подумал о завтрашнем дне — о своем столе в страховой компании, клерках с напомаженными, зачесанными назад волосами, неотличимо одинаковых, с аккуратно подвернутыми брюками, чтобы виднелись цветные носки, недавно купленные на распродаже, с карманами, полными дешевых сигарет, и головами, забитыми мыслями о размалеванных актрисах и именах скаковых лошадей! Страховая компания! Весь Лондон выплачивает ежегодный взнос, чтобы предохранить себя от самого интересного момента в жизни. Откуп от свободы и избавления!
Вне всякого сомнения, в этой гротескной и довольно мрачной игре именно магия личности моего приятеля обернула обычные приметы действительности делового мира в наших противников. Завтра, конечно же, все вновь станет реальным и зримым, без всяких шуток, а история О’Мэлли обернется поэтической выдумкой. Но в тот момент я проживал ее вместе с ним и находил великолепной.
Когда горшок с «варевом» опустел, мы сидели и курили на узком карнизе крыше дома-тюрьмы О’Мэлли, который всегда стремился на воздух, — захватив подушки, мы нередко устраивались на крыше возле одной из покрытых сажей труб под звездами, — и разговор этот я не забуду никогда. Жизнь создавалась заново. Меня окутала многократно умноженная сила величайшей волшебной сказки в истории человечества. И я уловил след реальности — страшной реальности! — в представлении, что тот величественный шар, где мы, словно насекомые, выглядываем каждый из своей ячейки в сотах, может быть телом божественного существа, мощным каркасом, вместилищем непостижимо огромного всеобщего коллективного сознания, намного превосходящего человеческое и совершенно отличного от него.
В записанной на бумаге истории, обнаруженной позже в пыльной комнатке в Пэддингтоне, О’Мэлли несколько тяжеловатым стилем излагал, как мне показалось, те отрывки, которые выбрал для него доктор Шталь. Несомненно, в виде мысленного очерка они были весьма интересны и наталкивали на важные соображения, однако рассказ о приключениях перегружал корабль воображения, который под его грузом заметно оседал. Однако, чтобы полнее воспринять все последовавшее, возможно, стоит отчасти пропитать ими разум. Читатель, которому не хочется задаваться размышлениями и которому достаточно ничем не обоснованного полета воображения, может свободно пропустить следующую главу, однако, чтобы отдать должное выстроенным ирландцем лесам, каркасу, на который опирается его поразительная греза, я обязан попытаться передать вкратце суть его разговора с доктором Шталем.
XVI
Насколько нам известно, любая часть видимой природы может служить частью некоего организма, отличного от наших тел… Собственно, мы совсем немного знаем о том, что именно может, а что не способно быть частью этого организма. Мы судим о других телах и душах лишь по сходству и аналогии с собственными… Некоторое сходство внешней формы, а также определенное сходство действий позволяют нам сделать заключение о наличии душевной жизни. Однако неспособность обнаружить подобные признаки недостаточна для доказательства ее отсутствия. В этой связи необходимо обратиться к энергичным аргументам Фехнера.
Надо признать, что я начал слушать его с внутренним сопротивлением или, по крайней мере, с предубеждением. Земля, конечно же, была лишь давно остывшим шаром, огромным комом грязи без признаков жизни. Как могла она быть живой в любом из возможных смыслов этого слова?
Однако постепенно, по мере того как О’Мэлли продолжал говорить на той крыше, среди прокопченных труб старого Лондона, меня все полнее начало охватывать ощущение иной реальности — новой, странной и прекрасной, слишком могучей, чтобы спокойно улечься в сознании. Смеяться больше не хотелось. На мир вдруг снизошла новая красота, словно настал прекрасный рассвет. И осеннее небо над нами, щедро усеянное звездами, опустилось к нам ниже, осыпав золотом и сиянием скучные коридоры моего житья-бытья. Даже стол в страховой конторе в Корхилле, где я служил, положительно заблистал под стать алтарю или даже трону.
Поразительная красота и масштабность теории Фехнера зажгли все вокруг своим светом; она была величественна и в то же время проста. Хотя в словах ирландца заключался, конечно, лишь ее отблеск — собственно, это была смесь лекции профессора Джеймса и мыслей доктора Шталя, сильно приправленная манерой изложения Теренса О’Мэлли, — но сама по себе она заронила мне в душу настолько действенные образы, что божественный смысл открывается и по сей день в самых обычных вещах. Горы, моря, просторы полей и лесов — все я теперь воспринимаю с удивлением, восторгом и благоговейным трепетом, неведомым прежде. Цветы, дождь, ветер, даже лондонский туман обрели для меня новый смысл.
Я не понимал прежде, что сами размеры нашей планеты могли помешать увидеть ее в истинном свете, ее масса не дала зародиться в сознании мысли о том, что она может быть в каком-либо смысле живой. Наделенный нашей способностью к рассуждениям микроб мог бы таким же образом отрицать возможность жизни у слона, в теле которого он находится, а какой-нибудь атом-резонер на основании своих ощущений пришел бы к твердому убеждению, что чудище, в чьей плоти он обитает, есть «небесное тело» мертвой, инертной материи, — и в том, и в другом случае размеры «мира» заслонили бы понимание проявлений жизни.
Причем Фехнер, как представляется, был отнюдь не праздным мечтателем, забавы ради развившим некий поэтический образ. Профессор физики Лейпцигского университета, он нашел время на разработку своей теории, хотя выполнял множество работ по электрохимии, а большинство его исследований по гальванизму стали классическими. Вклад Фехнера в развитие философии также весьма значителен. Среди прочих трудов классическая книга по теории строения атома, четыре тома с множеством математических выкладок и результатов экспериментов по «психофизике», как он ее называл (многие считают, что в первом из них Фехнер практически заложил основы современной научной психологии); книга об эволюции органического мира и две работы по экспериментальной эстетике, в которых, по авторитетному мнению ученых, высказываются самые фундаментальные принципы новой науки. Когда он умер, весь Лейпциг оплакивал его смерть, ибо он являл собой идеал немецкого ученого — столь же оригинально и дерзко мыслящего, сколь скромен и щедр был он в повседневной жизни, трудолюбивый раб истины и обретенья знаний… Его разум был одним из таких, в высшей степени организованных, перекрестков истины, куда лишь изредка добираются дети рода человеческого, но откуда все делается одинаково доступным и все можно рассмотреть с верной перспективы. Буквально все способности достигли в этом человеке наивысшего развития без видимого ущерба друг для друга: наитерпеливейший наблюдатель, талантливейший математик, проницательный аналитик, он в то же время был способен к самому тонкому сопереживанию и человеческому участию. Поистине, это был философ в самом великом смысле.