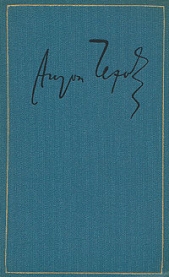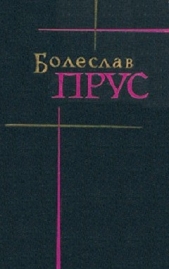Холм грез

Холм грез читать книгу онлайн
Роман Артура Ллевелина Мейчена (Мэйчена) «Холм грез» ("The Hill of Dreams") взят из первого тома собрания сочинений («Белые люди. Кн. 1.»), выпущенного издательством «Гудьял-Пресс» в серии "Necronomicon" в 2001 году.
Впервые "The Hill of Dreams" опубликован в 1907 г.
Художественное оформление — А. Махов.
Перевод с английского и примечания — Е. Пучковой. Перевод осуществлен по изданию: A. Machen "The House Hill of Dreams". New York: Alfred Knopf. 1923.
«Мейчен никогда не писал для того, чтобы кого-то поразить, он писал потому, что жил в странном мире и прекрасно это чувствовал и осознавал» — отмечал Х.Л. Борхес.
«Алхимия слова», которой он владел во всей полноте, позволяла ему оживлять на страницах своей прозы замутненные, полустертые временем образы давно забытых легенд и традиций, чересчур схематичные формулы «тайноведения», превращая их в «живое чудо». Чудо, которое «исходит из души».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До самого утра Луциан мечтал о погибели, отринутой им этой ночью, и проснулся с неимоверным трудом, как бы не желая возвращаться в обыденный мир. Мороз кончился, ветер уносил прочь клочья тумана, ясный серый свет заливал улицу. Луциан вновь уставился на длинный скучный ряд однообразных домов, которые почти месяц укрывались пеленою тумана. Ночью шел сильный дождь, перила садовой ограды все еще сочились сыростью, крыши влажно чернели, а вдоль по улице взгляд различал лишь плотные белые шторы, закрывавшие окна вторых этажей. На улице не было ни души — все спали после субботнего веселья, и даже на главной улице лишь изредка попадался случайный прохожий. Вот мимо прошуршала женщина в глухом коричневом платье — какие-то покупки понадобились ей с утра, — а затем мужчина в домашней рубашке высунул наружу кудлатую голову, придерживая рукой дверь и пристально рассматривая окно напротив. Через минуту он вновь уполз в дом, а вместо него на улице появились трое готовых к любой пакости подростков. Один из домиков показался им чересчур нарядным — он и впрямь был увешан изнутри уютными занавесками и цветочными горшками, — и кто-то из юных негодяев тут же вытащил кусок мела и написал на дверях какую-то похабщину. Его друзья в это время стояли на стреме. С честью завершив свой подвиг, все скопом ринулись прочь, хохоча и издавая победные клики. Раздался звон колокола, и сразу же тут и там показались дети, спешившие в воскресную школу. Приходские учителя с кислыми лицами и поджатыми губами проходили мимо, косясь на мальчонку, восторженно возвещавшего о приближении шарманщика. По главной улице чинно двигались достойные парочки — мужчины в воскресных, плохо сидящих костюмах и безвкусно вырядившиеся женщины. Они направлялись к церкви конгрегационалистов, этакому кошмарному оштукатуренному храму с дорическими колоннами. Главную улицу тоже никак нельзя было назвать оживленной.
Внезапно в нос Луциану ударил омерзительный запах капусты и жареной баранины — ранние пташки уже собирались обедать, — но многие еще продолжали валяться в постели, предполагая начать дневную трапезу в три часа пополудни. «Стало быть, эта капустная вонь продлится до вечера», — раздраженно подумал Луциан. Когда народ повалил из церкви, принялся моросить дождь, и матери маленьких мальчиков, одетых в вельветовые курточки, а равно и девочек, укутанных во всевозможные нелепые наряды, ловили и шлепали своих отпрысков, угрожая им отцовским гневом. Послеобеденный покой (капуста с бараниной!) опустился на город. В одних домах, зевая, читали приходскую газету, в других, зевая же, разыскивали в газетах истории об убийствах и прочей накопившейся за неделю мерзости. Единственными прохожими в этот час были дети, на сей раз ублаготворенные и до бровей наполненные едой, — колокол вновь призывал их. По главной улице, жужжа, проезжали набитые странными людьми трамваи. Какие-то непонятные парни, повязав вокруг шеи ярко-голубые галстуки, жизнерадостно пересмеивались, покуривая грошовые сигары. Не вонь их сигар раздражала достопочтенных ханжей, а то, что эти ребята осмеливались радоваться жизни — в воскресенье! Затем дети, выслушав историю о Моисее в тростниках и Данииле во рву со львами [56], мрачной чередой потянулись домой. Весь этот день люди казались Луциану серыми тенями, пробегающими по серой простыне.
А там, в саду, каждая роза превратилась в пламя! Луциан вновь мыслил символами — символами персидской поэзии, где тайный сад окружали белые стены, а замыкали ворота из бронзы. Взошли звезды, небо залил глубокий синий цвет, но высокие стены и причудливые каменные своды по-прежнему сияли белизной. И каждая стена казалась изгородью из майских цветущих деревьев, лилией в чаше из лазури, морской пеной на гребне вздымавшейся к закату волны. Белые стены трепетали; заслышав песню лютни, поднимаясь и опадая в таинственной тени, чистый фонтан в саду рождал мелодию. Поющий голос проникал сквозь белые решетки, сквозь бронзовые ворота — нежный голос, воспевавший влюбленного и его возлюбленную, виноградник, калитку и тропу. Луциан не знал языка этой песни, но музыкальная фраза все снова и снова повторялась у него в голове, дрожа и с трудом пробиваясь сквозь белое кружево решеток и стен. И каждая роза в сумраке сада превращалась в пламя.
Темный воздух наполнился ароматами Востока. В фонтан вылили розовое масло, и его небесный аромат дрожал в ноздрях Луциана, вибрируя, как звуки песни и сопровождавшей ее музыки. Тонкие языки благовонного дыма поднялись над величавой бронзовой курильницей и свились прозрачными кольцами над бутонами олеандра. В нахлынувших запахах Луциан почувствовал привкус наркотика — гашиша или опиума, навевавших сон и наслаждение длительной медитации. Белые стены, сомкнутые решетки и ограды то приближались, то отступали, то наливались багрянцем, то леденели вместе со звездами, становившимися все крупнее и ярче в своих серебряных мирах. Темно-лиловый, винно-багряный, сказочно прекрасный камень алтаря темнел и переливался на фоне неба. Поющий голос был полон муки, восторга, страсти. Он вел рассказ о неистовой любви, о слиянии душ влюбленных, подобном слиянию сока виноградных гроздьев в вине, о том, как нашли они тропу и калитку. И все нерасцветшие бутоны в укромном саду, все цветы и все розы горели пламенем.
Луциан знал, что открывавшаяся ему в этих символах жизнь могла стать явью для него, — но он отринул ее и вновь остался один-одинешенек на серой улице; где свет фонарей едва мерцал сквозь тусклый полумрак, где были слышны доносящиеся с главной улицы пьяные вопли и отзвуки бессмысленных и неуклюжих псалмов, что с завываниями распевают под гармонику в соседнем доме. Почему он ушел от встреченной накануне девушки — ведь ей были ведомы все секреты и в ее глазах мерцала тайна? Он открыл ящик стола и увидел знакомое нагромождение исписанных листков все в том же беспорядке, в каком он их оставил. Луциан знал, что у вчерашнего отказа могла быть только одна причина: он еще не совсем похоронил надежду завершить свой труд. Слава и мука его подвига сияла у него за плечами всякий раз, когда он глядел на свою рукопись. О, как жестоко — лишиться этого! Луциан знал, что если прямо сейчас сумеет усадить себя за стол, то довольно легко напишет изрядное количество страниц — выстроенный по всем правилам рассказ, который с готовностью примет «читающая публика». И не какую-нибудь заурядную поделку из числа тех, что так охотно заказывают популярные библиотеки! Нет, это будет почти «настоящее». Его книга сможет пробудить в читателях все чувства, но при этом останется выше их вкуса и, по определению Луциана, займет свое место в искусстве. Он не раз уже был свидетелем успехов такого рода и знал, что умелая подделка, ловкая литературная ложь, будет встречена публикой на «ура». К примеру, «Ромола» вызвала вопли восторга у самых солидных критиков, а такая настоящая книга, как «Дом и монастырь», осталась почти незамеченной.
Да, он мог бы написать нечто вроде «Ромолы», но, на его взгляд, козни дешевого фальшивомонетчика заслуживали прощения скорее, чем низкие уловки псевдолитературных мастеров. Луциан не желал становиться помощником того опытного мастера, что так искусно придает мебели окраску мореного дуба, — не желал, хотя и не раз видел, как подлинную мебель из старого дуба выбрасывают из дома и разбирают на доски для хлева или курятника. Он мерил шагами комнату, поглядывая на свой стол и размышляя над тем, осталась ли у него хоть какая-нибудь надежда. Пусть он не способен создать великую книгу — но, возможно, ему удастся написать подлинную вещь, где будут вдохновенные и искренние страницы. Все, что произошло прошлым вечером и что он увидел в мрачных красках заката, вновь пробудило в нем неистовое желание работать. Отчетливая картина обезумевшей толпы, ярких магазинов и пылающих взглядов, чуда и ужаса, горящих ламп и горящих душ вдруг овладела его рассудком, все ночные звуки и вопли, шепот и хриплый треск шарманки, протяжные крики мясника, засохшая кровь на его руках и пьяный хор показались Луциану адской увертюрой, в которой перемешались похоть и смерть. Ночь накрывала своей пеленой чудовищный амфитеатр, где разыгрывалась пьеса, освещенная уродливыми медными светильниками, медленно вращавшимися под натиском ветра. Смесь безумных воплей и безумных видений слилась в сознании Луциана в одно ясное целое. Теперь он был уверен, что стал зрителем и участником драмы, в которой ему заранее было отведено место и предоставлена роль, а услышанный им хор — лишь прелюдия к самому действу. Встреча с той женщиной предвещала его величие и гибель, и сцена для этой встречи была подготовлена заранее. Он не сомневался, что сразу же после его бегства замерли голоса и успокоились языки пламени, а толпа мгновенно провалилась во тьму, исчезли чудовищные лампы и освещаемые ими демонические декорации.