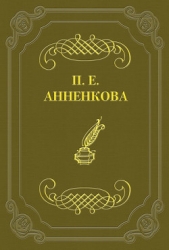Сад мучений

Сад мучений читать книгу онлайн
«Сад мучений» – необычен по содержанию: то, о чём здесь говорится, напоминает страшный ночной кошмар.
Творчество французского писателя Октава Мирбо, члена Академии Гонкуров, во многом определено его судьбой. Брак с артисткой кабаре Алисой Ренье вынудил писателя порвать с буржуазной средой. Его романы «Сад пыток» («Сад мучений») и «Дневник горничной», написанные в годы зрелости, дразнили пуритан и ханжей откровенным изображением человеческих страстей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Ах!
Она задохнулась, закрыв на секунду глаза. Грудь ее вздымалась, она тяжело дышала…
И, склонив голову мне на грудь, она прошептала:
– Я хотела бы быть цветком. Я хотела бы… Я хотела бы быть всем!
– Клара! – умолял я. – Милая Клара!
Я сжал ее в своих объятиях… Я качал ее на руках.
– Ты нет? Ты не хотел бы? О, по-твоему, лучше остаться на всю жизнь мягкой тряпкой? У, грубый!
После короткого молчания, во время которого мы сильнее слышали, как кричал красный песок аллеи под нашими шагами, она певучим голосом заговорила:
– Я тоже хотела бы, когда я умру, я хотела бы, чтобы в мой гроб положили бы самые сильные запахи, цветы фаликтра и изображения греха, прекрасные изображения, жгучие и обнаженные, как те, что украшают ковры моей комнаты. Или же, я хотела бы быть погребенной без платья и савана в подземельях храма Слона… со всеми этими странными каменными вакхами… ласкающими и раздирающими, я хотела бы бешеного сладострастия. Ах, мой милый! От такого я хотела бы уже быть мертвой!
И быстро добавила:
– Когда умрешь, ноги касаются дерева гроба?
– Клара! – умолял я. – Зачем всегда говорить о смерти? И ты хочешь, чтобы я не был печален? Умоляю тебя, не своди меня совсем с ума. Брось все эти мучающие меня мысли, и вернемся назад. Сжалься, милая Клара, вернемся!
Она не слушала мою просьбу и продолжала, а в ее тоне, не знаю, что было – волнение или ирония, нервные слезы или едкий смех:
– Если ты будешь около меня… когда я буду умирать, мой дорогой, слушай хорошенько! Ты положишь, да, ты положишь красивую подушку из желтого шелка между моими несчастными ножками и деревом гроба. А потом, ты убьешь мою красивую лаосскую собаку, и положишь ее, окровавленную, около меня, как она имела обыкновение ложиться сама около меня; ты знаешь, одна лапа на моем бедре, а другая на груди. А потом, долго, долго ты поцелуешь меня, мой милый, в губы, и в волосы. И будешь рассказывать мне истории, красивые истории, укачивающие и жгучие. Истории такие, которые ты мне говоришь, когда любишь. Не хочешь, мой милый? Обещаешь? Не делай такого похоронного лица! Печально не умереть, печально жить, когда несчастлив. Поклянись, поклянись, что обещаешь!
– Клара! Клара! Умоляю тебя! Замолчи!
Несомненно, я готов был лишиться чувств. Поток слез брызнул из моих глаз.
Я не мог бы назвать причину этих слез, которые не были тяжелы для меня, а, напротив, принесли мне как бы облегчение. И Клара ошиблась, приняв эти слезы за вызванные ею. Я плакал не о ней, не о6 ее грехе, не от милосердия, внушаемого ее больной душой, не от представления, вызванного ее словами о смерти. Может быть, я плакал только над собой, над своим присутствием в этом саду, над этой проклятой любовью, в которой, как я чувствовал, все, что было во мне теперь благородного порыва, высокого желания, честолюбия, профанировалось нечистым дыханием поцелуев, которых я стыдился и которых жаждал!
Нет же, нет!
И зачем мне лгать самому себе? Самые простые слезы, слезы слабости, усталости и лихорадки; слезы возбуждения перед слишком грубыми для моей слабой чувствительности зрелищами; перед слишком сильными для моего обоняния запахами; перед постоянными скачками от бессилия к возбуждению моих чувственных желаний. Женские слезы, ничтожныe слезы!
Уверенная, что я плачу о ней, умершей, лежащей в гробу, и счастливая своей властью надо мною, Клара сделалась очаровательно ласкова.
– Бедный малютка! – вздохнула она. – Ты плачешь? Ну, в таком случае сейчас же скажи, что у жирного добряка был простодушный вид. Скажи, чтобы доставить мне удовольствие, и я замолчу и никогда не заговорю о смерти, никогда больше. Ну! Сейчас же, скажите, поросенок.
Подло, но чтобы раз и навсегда покончить со всеми этими погребальными разговорами, я сделал то, о чем она просила меня.
С бурной радостью она бросилась мне на шею, поцеловала в губы, и, вытерев мне глаза, воскликнула:
– О, как ты любезен! Ты – любезный ребенок! Милый ребенок, дорогой мой! А я – гадкая женщина, злая бабенка. Которая дразнила тебя все время и заставляла плакать. А потом, толстяк – чудовище. Я ненавижу его. А потом, я не хочу, чтобы ты убивал мою прекрасную лаосскую собаку. А потом, я не хочу умирать. А потом, я обожаю тебя, ах! А потом, а потом, все это, понимаешь ли, было для смеха. Не плачь больше, ах! Не плачь больше! Улыбнись сейчас, засмейся своими добрыми глазами, своими нежными губами, своими губами, своими губами… И пойдем скорее! Я так люблю быстро ходить под руку с тобою!
И ее зонтик, легкий, сверкающий и сумасшедший, как огромная бабочка, летал над нашими соприкасающимися головами.
VII
Мы приближались к колоколу.
Справа и слева огромные красные цветы, огромные пурпурные цветы, пионы цвета крови, а в тени, под огромными зонтиковидными листьями петаситов, артуриумы, похожие на окровавленные легкие, казалось, иронически кланялись нам при проходе мимо них и указывали нам дорогу к мучениям.
Много здесь было и других цветов, цветов резни и убийства: тигридии, раскрывающие изуродованные горла, диклитры и их гирлянды красных цветочков, а также и суровые губоцветные с твердым мясом, мясистым, влажного цвета, настоящие человеческие губы – губы Клары, – кричащие с высоты своих нежных стеблей:
– Идите, милые, идите же скорее. Там, куда вы идете, еще больше страдания, еще больше мучений, больше крови, льющейся и впитывающейся в землю. Больше скорченных, разрываемых тел, хрипящих на железных столах, больше нарубленных тел, качающихся на веревке на виселице, больше ужаса и больше ада. Идите, мои дорогие, идите, уста с устами, рука с рукой. И смотрите сквозь листья и трельяжи, смотрите, как открывается адская диорама и дьявольское празднество смерти.
Клара молчала, вся дрожа, сжав зубы; глаза ее сделались жгучими и суровыми.
Она молчала и, продолжая идти, слушала голос цветов, в котором она узнавала собственный свой голос, твой голос ужасных дней и человекоубийственных ночей, голос свирепости, сладострастия, а также и скорби, который, казалось, выходил из глубины земли и из глубины смерти, а также из самой бездонной и самой мрачной глубины ее души.
Резкий звук, похожий на скрип блока, послышался в воздухе. Потом что-то очень важное, очень чистое, похожее на резонанс хрусталя, в который вечером ударилась ночная бабочка.
Тут мы вошли в широкую извилистую аллею, обрамленную с каждой стороны высоким трельяжем, отбрасывавшим на песок тень, изрезанную маленькими световыми ромбами.
Клара жадно глядела сквозь трельяж и листву. Смотрел и я между листвой и трельяжем, смотрел невольно, несмотря на искреннее решение теперь закрывать глаза на гнусные зрелища, смотрел, привлекаемый странным магнитом к ужасу, побежденный головокружительной властью чудовищного любопытства.
И вот что мы видели.
На обширном и низком холме, к которому незаметно вверх вела аллея, была совершенно круглая площадка, артистически окруженная деревьями, высаженными искусными садовниками.
В центре этой площадки висел огромный, коренастый, из матовой бронзы, с пятнами ржавчины, колокол, висел на блоке на верхней перекладине, подобии гильотины из черного дерева, столбы которой были изукрашены золотыми письменами и ужасными масками. Четверо мужчин, голых до пояса, с напряженными мускулами, с обвисшей кожей, превратившейся в бесформенные горбы, тянули за веревку блока, и их размеренные движения едва потрясали, поднимали огромную металлическую массу, которая при каждой встряске издавала чуть слышный звук, звук нежный, чистый, жалобный, вибрации которого терялись и умирали в цветах. Язык, тяжелая железная колотушка, только слегка раскачивался, но совсем не касался звучных стенок, устав так долго звонить над агонией несчастного. Под куполом колокола двое других мужчин с голой поясницей, с мокрыми от пота торсами, подпоясанные темными шерстяными поясами, наклонились над чем-то, чего не было видно.