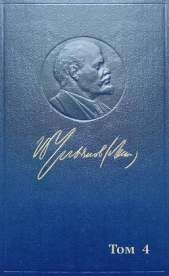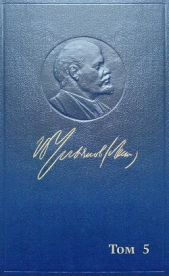Полное собрание сочинений в одном томе

Полное собрание сочинений в одном томе читать книгу онлайн
Настоящее издание представляет собой полное собрание художественной прозы и поэзии одного из самых гениальных и загадочных американских писателей - Эдгара Аллана По.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что до «Илиады», то мы располагаем если не прямым доказательством, то, по крайней мере, вескими основаниями предполагать, что она была задумана как цикл лирических стихотворений; но, допуская замысел эпоса, мы можем только сказать, что поэма зиждется на несовершенном представлении об искусстве. Современный эпос, написанный в духе ложно представляемых древних образцов, — плод опрометчивого и слепого подражания. Но время таких художественных аномалий миновало. Если когда-либо какая-либо очень большая поэма и вправду пользовалась популярностью — в чем сомневаюсь, то, по крайней мере, ясно, что никакая очень большая поэма никогда более популярна не будет.
Суждение о том, что величина произведения, ceteris paribus, может служить мерилом его оценки, будучи сформулировано подобным образом, несомненно, покажется в достаточной мере нелепым; но суждением этим мы обязаны нашим толстым журналам. Право же, в одном лишь абстрактно рассматриваемом количестве, насколько это касается книг, нет ничего достойного похвал, столь постоянно расточаемых этими суровыми изданиями! Да, гора в самом деле одними лишь своими пространственными размерами внушает нам чувство возвышенного; но никто не получит подобного впечатления даже от непомерного объема «Колумбиады» [1201]. Пока что журнальные рецензенты не требовали оценивать Ламартина в кубических футах, а Поллока [1202] — в фунтах; ко что еще можем мы вывести из их постоянных разглагольствований о «длительном усилии»? Ежели посредством «длительного усилия» какой-нибудь господинчик и разрешится эпической поэмой, от всей души похвалим его за усилия, ежели за это стоит хвалить; но давайте воздержимся от похвал его поэме только ради этих самых усилий. Можно надеяться, что в будущем здравый смысл столь возрастет, что о произведении искусства станут судить по впечатлению, им производимому, по эффекту, им достигаемому, а не по времени, потребному для достижения этого эффекта, или по количеству «длительных усилий», необходимых, дабы произвести это впечатление. Дело в том, что прилежание — одно, а дар — совсем другое, и никакие журналы во всем крещеном мире не могут их смешивать. Мало-помалу и это суждение наряду с другими, утверждаемыми мною, будет принято как самоочевидное. А пока их обычно осуждают как ложные, что не повредит существенным образом их истинности.
С другой стороны, ясно, что стихотворение может быть и неуместно кратким. Чрезмерная краткость вырождается в голый эпиграмматизм. Очень короткое стихотворение хотя и может быть блестящим или живым, но никогда не произведет глубокого или длительного впечатления. Печать должна равномерно вдавливаться в сургуч. Беранже сочинил бесчисленное количество произведений, острых и затрагивающих душу; но, в общем, их легковесность помешала им глубоко запечатлеться в общественном мнении, и, как многие перышки из крыл фантазии, они бесследно унесены ветром.
Пока эпическая мания, пока идея о том, что поэтические победы неразрывно связаны с многословием, постепенно угасает во мнении публики благодаря собственной своей нелепости, мы видим, что ее сменяет ересь слишком явно ложная, чтобы ее можно было долго выносить, но которая за краткий срок существования, можно сказать, причинила больше вреда нашей поэзии, нежели все остальные ее враги, вместе взятые. Я разумею ересь, именуемую «дидактизмом». Принято считать молча и вслух, прямо и косвенно, что конечная цель всякой поэзии — истина. Каждое стихотворение, как говорят, должно внедрять в читателя некую мораль, и по морали этой и должно судить о ценности данного произведения. Мы, американцы, особливо покровительствовали этой идее, а мы, бостонцы, развили ее вполне. Мы забрали себе в голову, что написать стихотворение просто ради самого стихотворения, да еще признаться в том, что наша цель такова, значит обнаружить решительное отсутствие в нас истинного поэтического величия и силы; по ведь дело-то в том, что, позволь мы себе заглянуть в глубь души, мы бы немедленно обнаружили, что нет и не может существовать на свете какого-либо произведения более исполненного величия, более благородного и возвышенного, нежели это самое стихотворение, это стихотворение per se, это стихотворение, которое является стихотворением и ничем иным, это стихотворение, написанное ради самого стихотворения.
Питая к истине столь же глубокое благоговение, как и всякий другой, я все же ограничил бы в какой-то мере способы ее внедрения. Я бы ограничил их ради того, чтобы придать им более силы. Я бы не стал их ослаблять путем рассеивания. Истина предъявляет суровые требования, ей нет дела до миров. Все, без чего в песне никак невозможно обойтись, — именно то, с чем она решительно не имеет ничего общего. Украшать ее цветами и драгоценными каменьями — значит превращать ее всего лишь в вычурный парадокс. Борясь за истину, мы нуждаемся скорее в суровости языка, нежели в его цветистости. Мы должны быть просты, точны, кратки. Мы должны быть холодны, спокойны, бесстрастны. Одним словом, мы должны пребывать в состоянии как можно более противоположном поэтическому. Воистину слеп тот, кто не видит коренные и непреодолимые различия между убеждением посредством истины и посредством поэзии. Неизлечимо помешан на теоретизировании тот, кто, невзирая на эти различия, все же настаивает на попытках смешать воедино масло и воду поэзии и истины.
Разделяя сознание на три главные области, мы имеем чистый интеллект, вкус и нравственное чувство. Помещаю вкус посередине, ибо именно это место он в сознании и занимает. Он находится в тесном соприкосновении с другими областями сознания, но от нравственного чувства отделен столь малозаметною границею, что Аристотель не замедлил отнести некоторые его проявления к самим добродетелям. Тем не менее мы видим, что функции частей этой триады отмечены достаточными различиями. Подобно тому как интеллект имеет отношение к истине, так же вкус осведомляет нас о прекрасном, а нравственное чувство заботится о долге. Совесть учит нас обязательствам перед последним, рассудок — целесообразности его, вкус же довольствуется тем, что показывает нам его очарование, объявляя войну пороку единственно ради его уродливости, его диспропорций, его враждебности цельному, соразмерному, гармоническому — одним словом, прекрасному.
Некий бессмертный инстинкт, гнездящийся глубоко в человеческом духе, это, попросту говоря, чувство прекрасного. Именно оно дарит человеческому духу наслаждение многообразными формами, звуками, запахами и чувствами, среди которых он существует. И подобно тому как лилия отражается в озере, а взгляд Амариллиды [1203] — в зеркале, так и простое устное или письменное воспроизведение этих форм, звуков, красок, запахов и чувств удваивает источники наслаждения. Но это простое воспроизведение — не поэзия. Тот, кто просто поет, хотя бы с самым пылким энтузиазмом и с самою живою верностью воображения, о зрелищах, звуках, запахах, красках и чувствах, что наравне со всем человечеством улыбаются и ему, — он, говорю я, еще не доказал прав на свое божественное звание. Вдали есть еще нечто, для него недостижимое. Есть еще у нас жажда вечная, для утоления которой он не показал нам кристальных ключей. Жажда эта принадлежит бессмертию человеческому. Она — и следствие и признак его неувядаемого существования. Она — стремление мотылька к звезде. Это не просто постижение красоты окружающей, но безумный порыв к красоте горней. Одухотворенные предвидением великолепия по ту сторону могилы, боремся мы, дабы многообразными сочетаниями временных вещей и мыслей обрести частицу того прекрасного, которое состоит, быть может, из того, что принадлежит единой лишь вечности. И когда поэзия или музыка, самое чарующее из всего поэтического, заставляют нас лить слезы, то не от великого наслаждения, как предполагает аббат Гравина [1204], но от некоей нетерпеливой скорби, порожденной нашей неспособностью сейчас, здесь, на земле, познать сполна те божественные и экстатические восторги, на которые стих или музыка дает нам лишь мимолетные и зыбкие намеки.