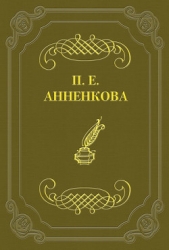Сад мучений

Сад мучений читать книгу онлайн
«Сад мучений» – необычен по содержанию: то, о чём здесь говорится, напоминает страшный ночной кошмар.
Творчество французского писателя Октава Мирбо, члена Академии Гонкуров, во многом определено его судьбой. Брак с артисткой кабаре Алисой Ренье вынудил писателя порвать с буржуазной средой. Его романы «Сад пыток» («Сад мучений») и «Дневник горничной», написанные в годы зрелости, дразнили пуритан и ханжей откровенным изображением человеческих страстей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она дала мне понюхать соли, укрепляющее могущество которой немного привело меня в себя. Она чувствовала себя свободной, очень веселой посреди этой толпы, запахи которой она вдыхала, самые омерзительные прикосновения которой она принимала с каким-то страстным спокойствием. Она телом – всем своим гибким и трепещущим телом – отдалась грубым ударам, обрыванию ее одежд. Ее такая белая кожа осветилась Жгучим розовым блеском; ее глаза приняли отблеск чувственной радости; ее губы вздувались, словно твердые бутоны, готовые расцвесть… Она сказала мне с каким-то насмешливым состраданием:
– Ах, баба… баба… баба!.. Вы всегда будете только баба и больше ничего!..
Когда мы вышли из сверкающего, ослепительного сияния солнца в коридор, он сначала показался мне погруженным в сумерки. Потом, понемногу привыкая к мраку, я смог отдать себе отчет, где я.
Коридор был широк и освещен сверху стеклянным потолком, пропускавшим через полупрозрачные стекла только смягченный свет. Меня, словно ласка источника, всего охватило ощущение влажной прохлады, почти холода. Стены были покрыты слезами, как перегородки подземных гротов. Для моих ног, обожженных камнями равнины, песок, которым были посыпаны плиты коридора, показался мягким, как дюны на берегу моря. Я полными легкими вдыхал воздух. Клара сказала:
– Ты видишь, как здесь хорошо для каторжников…
По крайней мере, им прохладно.
– Но где же они? – спросил я. – Направо и налево я вижу только одни стены!
Клара улыбнулась.
– Как ты любопытен! Ты сейчас даже более нетерпелив, чем я! Подожди, подожди немного. Сейчас, мой дорогой, ну!
Она остановилась, глаза у меня засверкали еще больше, ноздри раздулись, уши прислушивались к звукам, как косуля на стороже в лесу, – и она указала мне пальцем в глубь коридора.
– Слышишь?.. Это – они! Слышишь?
Тогда, из-за шума толпы, наполнявшей коридор, из-за жужжащих голосов, я различил крики, глухие жалобы, звон цепей, прерывистые вздохи, как кузнечные меха, странный и протяжный рев диких зверей. Казалось, все это несется из толщи стены, из-под земли… из самой бездны смерти… неизвестно откуда…
– Слышишь? – продолжала Клара. – Это они… ты сейчас их увидишь. Идем! Возьми меня за руку. Смотри же. Это они! Это они!
Мы продолжали идти в сопровождении боя, внимательно следившего за движениями своей госпожи. Нас сопровождал также и ужасный запах трупа; он не покидал нас больше, подкрепленный другими запахами, аммиачная едкость которых резала глаза и горло.
Колокол все глухо звонил… глухо, медленно и скорбно, словно жалоба умирающего. Клара в третий раз повторила:
– О, этот колокол! Он умер, он умер, мой дорогой. Мы, может быть, увидим его.
Вдруг я почувствовал, что ее ногти нервно вонзились в мою кожу.
– Милый, милый, направо! Какой ужас!
Я быстро повернул голову… Начиналось адское зрелище.
Направо, в стене, были широкие кельи или, скорее, широкие клетки, загороженные решетками и отделенные друг от друга толстыми каменными перегородками. Первые десять были заняты, в каждой по десяти осужденных, и все десять представляли одинаковое зрелище. Шея, заключенная в такой широкий ошейник, что тел нельзя было видеть, можно было сказать,, что это – ужасные, живые, отрубленные головы, положенные на столы. Сидя на корточках посреди своих нечистот, с закованными руками и ногами, они не могли ни вытянуться, ни лечь, ни отдохнуть никогда. Малейшее движение, передвигая ошейник на их содранном горле и на окровавленном затылке, заставляло их издавать вой от боли, к которому они присоединяли ужасные проклятия нам и жалобы богам.
Я онемел от ужаса.
Легкая, с красивым трепетом и изящными движениями, Клара защепила из корзины боя несколько небольших кусков мяса и грациозно бросила их сквозь решетку в клетку. Десять голов одновременно повернулись на закачавшихся ошейниках; одновременно двадцать больших глаз бросили на мяса кровавые взгляды, ужасные голодные взгляды. Потом один общий крик вырвался из десяти скривленных ртов. И, поняв свою беспомощность, заключенные больше не шевелились. Они замерли, слегка наклонив головы, словно готовые – покатиться по наклону ошейников: черты их исхудалых и бледных лиц были сведены суровой гримасой, какой-то насмешливой неподвижностью.
– Они не могут есть, – объявила Клара. – Они не могут достать мяса. Черт возьми, при таких машинках это понятно. Но это не ново. Это – муки Тантала, удесятеренные ужасом китайского воображения… А?.. ты все-таки веришь, что есть несчастные люди?
Она бросила еще сквозь решетку небольшой кусочек падали, который, упав на край одного ошейника, привел его в легкое колебание. Глухое ворчание отвечало на ее движение; и в то же время в двадцати зрачках загорелась еще более свирепая ненависть и еще большее отчаяние… Клара инстинктивно отодвинулась.
– Видишь, – продолжала она менее уверенным тоном. – Им приятно, что я даю им мяса. Этим несчастным это доставляет приятное развлечение, доставляет им некоторую иллюзию. Идем, идем!
Мы медленно проходили перед десятью клетками. Останавливавшиеся женщины кричали или звонко смеялись, или же предавались страстной мимике. Я видел, как одна русская, совершенная блондинка, с белыми холодными глазами, протягивала наказываемым, на конце своего зонтика, отвратительные зеленоватые остатки, которые она то придвигала, то отодвигала от них. Со сведенными судорогами губами, скаля зубы, как приведенные в бешенство собаки, они пытались схватить пищу, которая всякий раз ускользала от их ртов, покрытых слюной. Любопытные женщины со вниманием и радостью следили за всеми перипетиями этой жестокой игры.
– Какие дураки! – сказала Клара, серьезно приходя в негодование. – На самом деле, есть женщины, для которых нет ничего святого. Это – позорно!..
Я спросил:
– Какие же преступления совершили эти люди, что их так мучают?
Она рассеянно ответила:
– Не знаю… Может быть, никакого или какую-нибудь мелочь, наверное… Вероятно, мелкие кражи у торговцев. Впрочем, это – простой народ, бродяги из порта, праздношатающиеся бедняки. Они не очень интересуют меня. Но тут есть другие. Ты сейчас увидишь моего поэта. Да, у меня здесь есть один любимец и, действительно, он – поэт! Не правда ли, это смешно? Но, знаешь ли, он – великий поэт! Он написал чудесную сатиру на одного принца, обокравшего казну. И он ненавидит англичан. Раз вечером, два года тому назад, его привели ко мне. Он пел очаровательные вещи. Но особенно великолепен он в сатире. Ты сейчас увидишь его. Он – прекраснее всех. По крайней мере, если он уже не умер! Черт возьми! При таком режиме не было бы ничего удивительного. Что особенно огорчает меня, так это то, что он больше не узнает меня. Я разговариваю с ним, я пою ему поэмы. И тем более он не узнает их. Это ужасно, не так ли? Но это, все-таки, и забавно.
Она старалась быть веселой… Но веселье ее звучало фальшиво, ее лицо было серьезно. Ее ноздри быстро раздувались. Она еще тяжелее оперлась на мою руку, и я чувствовал, как дрожь пробежала по всему ее телу.
Тут я заметил, что в стене налево, против каждой камеры, были сделаны глубокие ниши. В этих нишах находились деревянные точеные и раскрашенные изображения всех видов употреблявшихся в Китае мучений, изображения со всем ужасным реализмом, свойственым искусству Дальнего Востока: сцены обезглавливания, удушения, снятия кожи, отрывания кусков тела, безумные математические изобретения, составляющие науку мучений, по своей утонченности незнакомую нашей западной, довольно, однако, изобретательной кровожадности. Музей ужаса и отчаяния, в котором ничего не пропущено из человеческой жестокости, музей, который постоянно, во всякое время дня напоминает заключенным точным изображением искусную смерть, на которую они обречены своими палачами.
– Не смотри на это! – сказала мне Клара с презрительной гримасой. – Ведь это, мой милый, раскрашенное дерево. Сюда смотри, здесь все настоящее… Вот! Вот как раз мой поэт!
И она сразу остановилась перед клеткой.