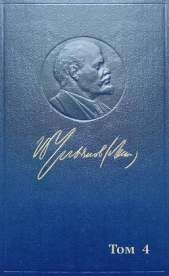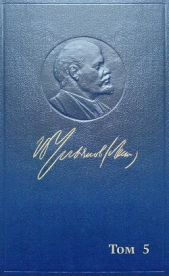Полное собрание сочинений в одном томе

Полное собрание сочинений в одном томе читать книгу онлайн
Настоящее издание представляет собой полное собрание художественной прозы и поэзии одного из самых гениальных и загадочных американских писателей - Эдгара Аллана По.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тропинка внутри ворот вела по естественному выступу и понемногу плавно опускалась по склону скал на северо-востоке. Она повела меня к подножью обрыва в северной стороне, оттуда — через мост и, обогнув дом с восточной его оконечности, подвела к парадному. Я заметил, что флигели пропали из вида.
Когда я поворачивал за угол, ко мне в напряженной тишине по-тигриному прянул мастиф. Однако в залог дружбы я протянул ему руку — и я не встречал еще собаку, способную воспротивиться, когда подобным образом взывают к ее вежливости. Пес не только захлопнул пасть и завилял хвостом, но и дал мне лапу — а затем распространил свою любезность и на Понто.
Не обнаружив звонка, я постучал тростью в полуоткрытую дверь. И тут же к порогу приблизилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или, скорее, даже хрупкая, чуть выше среднего роста. Пока она приближалась с некоторой не поддающейся описанию скромною решимостью, я сказал себе: «Право же, я увидел совершенство естественного, нечто прямо противоположное заученной грациозности». Второе впечатление, произведенное ею на меня, и куда более живое, нежели первое, было впечатление горячего радушия. Столь ярко выраженная, я бы сказал, возвышенность или чуждость низменным интересам, как та, что сияла в ее глубоко посаженных глазах, никогда еще дотоле не проникала мне в самое сердце сердца [1078]. Не знаю почему, но именно это выражение глаз, а иногда и губ — самая сильная, если не единственная чара, способная вызвать у меня интерес к женщине. «Возвышенность», — если мои читатели вполне понимают, что я хотел бы выразить этим словом — «возвышенность» и «женственность» кажутся мне обратимыми терминами; и, в конце концов, то, что мужчина по-настоящему любит в женщине — просто-напросто ее женственность. Глаза Энни (я услышал, как кто-то внутри позвал ее: «Энни, милая!») были «одухотворенно серого» цвета; ее волосы — светло-каштановые; вот все, что я успел в ней заметить.
По ее приглашению, весьма учтивому, я вошел в дом и сперва очутился в довольно широкой прихожей. Я пришел главным образом для наблюдений и поэтому обратил внимание, что справа от меня находилось окно, такое, как на фасаде; налево — дверь, ведущая в главную комнату; а прямо передо мной открытая дверь давала мне увидеть маленькую комнату, одной величины с прихожей, обставленную как кабинет, в котором большое окно фонарем выходило на север.
Пройдя в гостиную, я оказался в обществе мистера Лэндора — ибо, как я узнал впоследствии, такова была его фамилия. В обращении он был приветлив, даже сердечен; но именно тогда мое внимание более привлекала обстановка жилья, столь меня заинтересовавшего, нежели облик его хозяина.
В северном крыле, как я теперь увидел, помещалась спальня, дверь соединяла ее с гостиною. К западу от двери выходило на ручей единственное окно. В западной стене гостиной был камин и дверь, ведущая в западное крыло — вероятно, в кухню.
Ничто не могло бы суровою простотою превзойти обмеблировку комнаты. Пол устилал ковер превосходной выработки — с круглыми зелеными узорами по белому полю. На окнах висели занавески из белоснежного жаконета: они были достаточно пышны и ниспадали к полу резкими, быть может, чрезмерно жесткими складками — и доходили точно до пола. Стены были оклеены бумажными французскими обоями весьма тонкого вкуса, с бледно-зеленым зигзагообразным орнаментом по серебряному полю. Стена оживлялась тремя изысканными литографиями Жюльена [1079] a trois crayons [1080], повешенными без рамы. Одна из них изображала сцену восточной роскоши или, скорее, сладострастия; другая — карнавальный эпизод, исполненный несравненного задора; третья — голову гречанки, и лицо, столь божественно прекрасное и в то же время со столь дразнящею неопределенностью выражения, никогда дотоле не привлекало моего внимания.
Более основательная мебель состояла из круглого стола, нескольких стульев (в том числе большой качалки) и софы или, скорее, небольшого дивана; материалом ему служил простой клен, окрашенный в молочно-белый цвет, слегка перемежаемый зелеными полосками; сиденье плетеное. Стулья и стол — того же стиля; но формы их всех, очевидно, являлись порождением ума, который измыслил и весь «участок»; ничего изящнее и представить себе невозможно.
На столе лежали несколько книг, стоял большой квадратный флакон из хрусталя с какими-то новыми духами; простая астральная (не солнечная) лампа [1081] из матового стекла, с итальянским абажуром, и большая ваза, полная великолепных цветов. Цветы с многообразной яркой окраской и нежным ароматом были единственным, что находилось в комнате только ради украшения. Камин почти целиком занимала ваза с яркой геранью. На треугольных полках по всем углам стояли такие же вазы, отличные друг от друга лишь своим прелестным содержимым. Один-два букета поменьше украшали каминную полку, а поздние фиалки усеивали подоконники открытых окон.
Цель настоящего рассказа заключается единственно в том, чтобы дать подробное описание жилища мистера Лэндора, каким я его нашел.
9 июня, 1849
пер. В. Рогова
Mellonta tauta [1016]
Редактору «Ледиз бук».
Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом [1017] (иногда называемым Пророком из Покипси [1018]) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в Mare Tenebrarum [1019], — море это отлично описано нубийским географом, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.
Преданный вам
Эдгар А. По.
С борта воздушного шара «Жаворонок»
1 апреля 2848
Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливым письмом. Да, повторяю, за все ваши выходки я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой canaille [1020], отправившихся в увеселительную поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на terra firma [1021]по крайней мере, месяц. Поговорить не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать — это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо, — из-за своей ennui [1022]и ваших прегрешений.
Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.
Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто Новое? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара? Неужели никто не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца — сущая пытка. Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отправились! Птицы и те нас обгоняют, во всяком случае некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца, и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что, если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали тутовыми ягодами — это нечто вроде арбуза, — а когда он был достаточно жирен, его размалывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась папирусом, а затем подвергалась дальнейшей обработке, пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось euphorbium, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингемом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на гуттаперчу, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов грибов. Надеюсь, Вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.