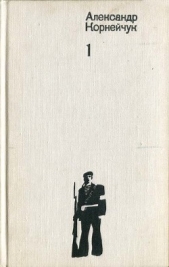Декабрь без Рождества

Декабрь без Рождества читать книгу онлайн
Наступил грозный и трагический 1825 год. Роман Сабуров и Платон Роскоф, каждый по-своему, верно служат Империи и Государю. Александр Первый собирается в тайный вояж на юг, но уже сжимается вокруг невидимое кольцо заговора. Император обречен. Он умирает в Таганроге, и теперь у Сабурова и Роскофа только одна цель: уберечь царскую семью от уничтожения, не дать заговорщикам осуществить свои дьявольские планы по разрушению величайшей Империи в истории!
Роман завершает сагу-трилогию о роде Сабуровых, начатую в романах «Ларец» и «Лилея».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«А я и слышал, — ответил Арсений, и Панна покраснела еще больше».
«И, по-твоему, она не vulgar?!»
«Ну… видишь ли, vulgar это все ж-таки когда человек не знает, как надо и как не надо. А она ведь прекрасно знает. Захоти, могла бы быть очень бонтонной, право. Ей нравится эпатировать».
«Может статься, ей и нравится эпатировать, только едва ль Платону может понравиться эпатирующая девица, — Панне стало не слишком приятно, что Арсений оправдывает в чем-то Ямпольскую. — Платону может понравиться только особа безукоризненно изысканная».
«Знаешь, — Арсений словно на мгновение отстранился от собственных гессенских сапог, блондов, подтемненных волос и сделался старше. — Платоше нашему собственной изысканности, пожалуй, достанет на двоих. Пересыщенный раствор кристаллы не растворяет, помнишь, нам в физике объясняли? А мне так, Панечка, неохота в Архивах служить, а папенька рогом уперся. Говорит, самое лучшее для продвижения в обществе».
«Да, родители вечно чего-то хотят на свой манер, — Панна вздохнула. — А ты послужи год, папенька успокоится, а там видно будет. Понимаешь, все ведь дело в том, что они нас еще всерьез не принимают. Ты сейчас говоришь, „не хочу“, а он еще думает, будто ты от манной каши отказываешься. Мало ль, чего ты не хочешь. А со службы воротишься через год, будешь как бы сам по себе, и „не хочу“ твое будет другое».
«Ты такая взрослая иногда, — Арсений вздохнул. — Мне даже больно, какая ты иногда бываешь взрослая. Откуда в тебе это?
Ты ж меня на три года моложе. А служить я вообще не хочу. Мы будем жить в деревне, читать и принимать у себя немногих друзей, тех, с кем есть о чем говорить. Ведь больше нам ничего не надобно, правда?»
«Правда».
И тут уста их слились, впервые, по-взрослому, как, надо думать, свойственно целоваться только супругам.
Узурпатор в те дни еще не снялся из Дрездена, но войска уже выстраивались в восточном направлении. Это были дни глубочайшего падения христианской Европы. Император Австрийский и король Пруссии как с ровней встречались с трактирщиковым сыном Иахимом Мюратом, венчанным «королем» Неаполитанским. Бонапарту же они воздавали почести как высшему, называя его «императором» и «Наполеоном Первым». Теперь уж Бонапарт приходился Императору зятем, коли можно назвать так владыку наложницы, поскольку брак с Марией-Луизой Австрийской от живой жены Жозефины Богарне не был законен.
«Зачем было австрийцам точить сабли свои о ступени французского посольства?! — отчаянно повторяла в Кленовом Злате Елена Кирилловна. — Теперь бы им стоило этими самыми саблями зарубить друг дружку насмерть!»
«Почему? — спрашивал Платон, как-то начавший в то лето перетекать от младших друзей в общество взрослых».
«Да потому, что самоубийство — грех, — сердилась Елена Кирилловна. — Но и жить мужчинам после такого позора тоже никак нельзя!»
И австрийская принцесса теперь не только разделяла ложе узурпатора, но и успела дать жизнь младенцу, прозванному Римским королем и долженствовавшему, по чаяньям Бонапарта, стать французским Императором. А в пыльной стклянке, в убогой лавчонке аптекаря, билось сердце другого мальчика, законного Государя Франции. Даже революция представлялась теперь не столь страшна, поскольку в ней еще можно было отделить Добро от Зла. Ныне в старой Европе смешалось все. Лишь две державы явственно копили силы для сопротивления тому, кто уже видел себя владыкою мира: Великобритания и Россия.
Не защищенная морскими глубинами, Россия готовилась принять чудовищный удар, после предательства Австрии это было ясным всем, кто жадно следил за газетными листами.
Как большинство подростков, Панна и Арсений нисколько не интересовались событиями политической жизни. На первых шагах из детской, они еще худо знали жизнь, то и дело разминываясь с нею то во времени, то в пространстве. Смысл собственного бытия, философия, искусство составляли единственную пищу для их юных умов. Мимоходом, между мыслями об Арсении и живописи, Панна видела, что отец пребывает в непрестанной тревоге. Но разве не все последние годы он тревожился вестями с первой родины? И нездоров он был тоже не со вчерашнего дня. Из всего этого никак не вытекало, что отец может умереть. Посещая могилы и много-премного размышляя о смерти, они в нее на самом деле нисколько не верили.
Еще полтора месяца отделяло их от того дня, когда самая простая данность об один день завершит их повзросление: враг ступит на Русскую землю.
Глава IX
Случайная тень Франции, вдруг проскользнувшая в разговоре с Гремушиным, уже не оставляла Роскофа. Едучи новодельною и недолговечной дорогою на Орёл, он все вспоминал совсем другую дорогу, что была самой естественной, проселочной, набитой за не одну сотню лет.
Наяву Платон Роскоф ехал шагом, в воспоминании своем мчался галопом. Домики, крытые черною соломой, сложенные из гранита, похожего на золотистый жженый сахар, столь малые, что русский пятистенок показался бы рядом просторным, как грибы вырастали впереди, расступались перед его лошадью и отставали, сменяясь невысокими яблоневыми садами. За яблонями зеленели поля артишоков, за артишоками стлалась гречиха, за гречихою вновь являлись гранитные дома-игрушки, то кучкой, образуя городок, то на особицу. Как же хороши были огромные, словно деревья, пышные гортензии в каждом палисаднике — розовые, красные, белые, синие. Синих гортензий, Платон знал, от природы не бывает, но крестьяне достигают такого цвета, удобряя цветы толчеными морскими ракушками. Сколько же всего он знал об этих краях, сколь многое словно уже видал когда-то! Память предков? Бог весть.
В бедном трактире с земляным полом ему подали только колодезной воды. Одноногий хозяин, со странно отчужденным выраженьем лица, не глядя на путника пояснил, что не прикрыл своего заведения лишь потому, что еще может предложить сена для лошадей проезжих.
«Из того у меня и останавливаются. Сено да ночлег, вот все, что можно у меня получить, хоть добром, хоть силой».
«Скотину забрали? — волнуясь, спросил Платон по-бретонски. Первый раз он пытался говорить на этом языке, между делом преподанном ему отцом».
«Третье лето, как постимся круглый год, — усмехнулся трактирщик, цепко вглядываясь в лицо де Роскофа. — Младшие ребятишки померли без молока. Осталось только четверо, нешто это семья?»
«По нынешним временам — еще изрядная, — отвечал Платон».
«Вы худо говорите по-нашему, сударь. Из чего делать такой труд, за местного вам не сойти».
«Нужды нет, я и есть местный, хотя и родился вдалеке, — непривычные бретонские слова цеплялись друг за дружку все бойчее. — Мое имя де Роскоф».
«Нешто вправду живой принц? — вопреки своему почтительному предположению, трактирщик опустился на скамью напротив Платона Филипповича. — Нынче все перемешалось. Мог бы я ждать молодежи из старых семей из-за моря, а вот чтоб со стороны Парижа… Ну да сегодня жди всего».
«Я еду к себе домой, — сказал Платон Филиппович. — Дед мой едва ль может быть в живых, ему под сто годов. Не слыхал ли ты, добрый человек, давно ль он умер?»
«Где мне слыхать, я прокаженный, — на лицо трактирщика набежала тень».
«Так ногу ты потерял… — догадался Роскоф».
«В Испании, — кивнул трактирщик. — Как нас убивать перестали, пошли в рекруты вязать. У Нея служил, воевал с такими же честными христианами, как сам. Сбежать бы мне, да за семью побоялся. Теперь вот…» — бретонец не договорил.
Тоскливая жалость стиснула сердце. Нечем утешить. Не мытьем, так катаньем, общая французская скверна пятнает потихоньку маленький рыбацкий народ.
«Далёко ль до Морле?»
«Так вам, сударь, в Роскоф? — казалось, трактирщик не считал себя вправе ни оказывать почтение Платону Филипповичу, ни называть его „принцем“. Больше того, он перешел на французский язык, словно добровольно себя из чего-то выключая».
«В Роскоф».
«Так вы лишнего взяли от моря. На Морле вам теперь не надобно. Проселочною дорогой держите путь до Каменного поля, как увидите хоровод глыб, сворачивайте на хороший тракт».