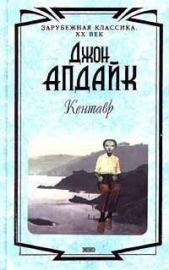Кентавр
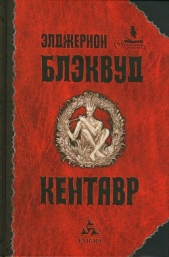
Кентавр читать книгу онлайн
Umbram fugat veritas (Тень бежит истины — лат.) — этот посвятительный девиз, полученный в Храме Исиды-Урании герметического ордена Золотой Зари в 1900 г., Элджернон Блэквуд (1869–1951) в полной мере воплотил в своем творчестве, проливая свет истины на такие темные иррациональные области человеческого духа, как восходящее к праисторическим истокам традиционное жреческое знание и оргиастические мистерии древних египтян, как проникнутые пантеистическим мировоззрением кровавые друидические практики и шаманские обряды североамериканских индейцев, как безумные дионисийские культы Средиземноморья и мрачные оккультные ритуалы с их вторгающимися из потустороннего паранормальными феноменами. Свидетельством тому настоящий сборник никогда раньше не переводившихся на русский язык избранных произведений английского писателя, среди которых прежде всего следует отметить роман «Кентавр»: здесь с особой силой прозвучала тема «расширения сознания», доминирующая в том сокровенном опусе, который, по мнению автора, прошедшего в 1923 г. эзотерическую школу Г. Гурджиева, отворял врата иной реальности, позволяя войти в мир древнегреческих мифов.
«Даже речи не может идти о сомнениях в даровании мистера Блэквуда, — писал Х. Лавкрафт в статье «Сверхъестественный ужас в литературе», — ибо еще никто с таким искусством, серьезностью и доскональной точностью не передавал обертона некоей пугающей странности повседневной жизни, никто со столь сверхъестественной интуицией не слагал деталь к детали, дабы вызвать чувства и ощущения, помогающие преодолеть переход из реального мира в мир потусторонний. Лучше других он понимает, что чувствительные, утонченные люди всегда живут где-то на границе грез и что почти никакой разницы между образами, созданными реальным миром и миром фантазий нет».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXII
Дальнейшее повествование унесло меня в волшебную страну, но такая действительно существует, ибо живет в сердце каждого человека, имеющего воображение и не замыкающегося от вселенной в тесном мирке.
Если перенесенный О’Мэлли на бумагу рассказ, а в особенности его записи в растрепанных блокнотах приводили меня в замешательство, переданное им на словах приоткрыло ощущение безмерности и счастья, которые он испытал. Я уловил лишь отдельные сцены, залитые ослепительным светом. Их бессвязность передавала величие целого лучше, чем любая последовательная увязка.
Кульминация отсутствовала. Повествование двигалось кругами. По мере того как я слушал, меня обволакивало ощущение вечности, поскольку он поместил рассказ вне времени и пространства, и я также начал грезить. Как никогда ясными сделались слова «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» [94]. Вероятно, так чувствовал себя монах, для чьего сердца прошла сотня лет, пока он внимал песне птички.
На мои вопросы практического свойства, которыми я по глупости вначале тревожил его, мой друг не ответил, поскольку был не в состоянии. Но не было ни малейшего сомнения, что излагаемое не плод художественного воображения.
— Ты действительно ощущал Землю вокруг и внутри себя, — спросил я, — примерно как чувствуешь присутствие друга?
— Да, я полностью утопал в ней, как в мыслях и чувствах того, кого страстно любишь, — ответил он, и голос его дрожал.
— Значит, слова были излишни?
— Невозможны, убийственны, — последовал лаконичный ответ, — они ограничивали и даже разрушали.
Это, по крайней мере, я осознал: беспомощность слов перед всеобъемлющей любовью, когда полностью теряешься в другом, плывешь без опоры, но окруженный заботой, принятый внутрь.
— А как же твой русский друг, твой вожатый? — запинаясь, осмелился спросить я.
Ответ, на удивление, много прояснил:
— Он был наподобие важной руководящей мысли в сознании Земли, как яркий мотив, толкующий ее любовь и великолепие и не дающий уклониться.
— То есть как ты почувствовал в Марселе: он был тем жизненно важным ключом?
Необычная фраза из его записей хорошо запомнилась мне.
— Неплохое слово, — засмеялся он, — и, собственно, довольно подходящее. Ведь он — вернее, оно — был одновременно и внутри меня. По мере роста и расширения наших жизней мы все больше сливались. И увлекали за собой берега, став потоком! Весь пейзаж увлекали с собой!
Последние слова сбили меня с толку, неясно даже было, как реагировать. Тогда Теренс отставил тарелки — мы зашли пообедать в один из ресторанчиков Сохо, где заняли столик в дальнем зале. Кроме нас посетителей не было. О’Мэлли придвинулся ближе к столу.
— Разве ты не понимаешь, что наш путь проходил также внутри, — кратко уточнил он.
Бледный лондонский свет проникал черед окно, пройдя над мрачными крышами с дымовыми трубами и дворами-колодцами. Но, коснувшись лица Теренса, он, казалось, вновь засиял. А от него свет и тепло передались мне.
— Но ведь вы и в самом деле пересекали горы?..
— Одновременно погружаясь все глубже в душу, — повторил он. — Впрочем, называй как хочешь. Наше состояние менялось. Во взаимном соответствии. Мы перемещались по лику Земли, одновременно погружаясь. Вершили свой путь с той, что величественнее нас, захваченные ею, слившись, в полном сочувствии с нею и друг с другом…
Но я не мог дальше следовать за ним, не в силах притворяться, что понимаю существо столь мистического опыта, лишь дружеская симпатия помогала еще хоть немного следовать за его мыслью. Похоже, он и не ожидал иного. И его сердце было неспокойно, поскольку говорил он о таких вещах, с которыми лишь немногие способны справиться, не теряя рассудка, и еще меньшее число наделено терпением выслушать.
И все же — о! — какими запахами леса, росы и предрассветной прохлады заблагоухала комнатка на Греческой улице во время рассказа этого милого заблудшего сына Земли! Ибо «глас его звучал подобно музыке, он лишал способности рассуждать здраво, отравляя разум радостным возбуждением». Изящные руки, которыми он жестикулировал, нежные чувственные губы, сияющие голубые глаза — глядя на него, я понял, чем привлекало его лицо: благородством, несмотря на неизменный поношенный серый костюм, вечно выбивающийся галстук, обтрепанные манжеты и огромные ботинки, которые он не снимал даже в Лондоне, «полицейские ботинки», как мы посмеивались.
Но сколь жива была нарисованная им картина! Казалось, я сам ощущал биение пульса вечной весны под ногами, что тщетно пытается пробиться из-под гнета лондонских мостовых, уложенных цивилизацией, — здесь радость Земли не могла показаться на свет цветами. Но все же ему удалось донести до меня хоть долю смысла, огрубленного по дороге и, боюсь, чрезмерно упрощенного.
Пока лилась речь О’Мэлли в душном ресторанном зальчике, я отчасти сумел уловить великолепие его видения. Из-за слов местами прорывалось сияние. Мой мирок расширился. Мое существо всемерно стремилось постичь то, что он рассказывал, связать воедино ускользающие фрагменты чудесных сцен, которые Теренсу были ведомы в целостности.
Возможно, его распространившееся сознание частично проникло в мое, «задев», как, согласно его словам, Земля «задела» его самого, благодаря чему мне удалось подсмотреть частицу опыта, звеневшего и излучавшего свет в его душе. Должен признать, это было живительно, хотя порой захватывало дух, а возвращение на улицы, в лондонский мир омнибусов, доставило почти физическую боль. О это нисхождение в уродливый мир разочарования! Вещи, теперь с трудом поддающиеся моему пониманию, хотя и описаны моими собственными словами, тогда представлялись совершенно или почти ясными. Обычно же они бежали бы моего понимания.
Однако я усвоил урок. В некоем духовном смысле я осознал, что все великие учения приходят в мир сходным путем: через временное расширение сердца, способного их принять. Уступая место, обычное неглубокое Я отодвигается в сторону, вплоть до полной потери личности. Позже сознание снова сжимается, однако оно все же успевает расширить свои границы. Не это ли имеют в виду мистики, когда утверждают, что следует отказаться от личного, подавить его, прежде чем вступать в контакт с божественными сущностями?
Как бы то ни было, пока О’Мэлли говорил за чашкой стынущего кофе, в дыму сигареты, делавшем атмосферу еще более душной, слова его передавали почти величественное убеждение в реальности пережитого. И я в некоторой мере причастился их истинности и красоты, поэтому, обнаружив записи, удивился, насколько бледно и бесстрастно они выглядели. Конечно же, отсутствовали жизненно важный ключ, личная интерпретация и напор моего ирландского друга.