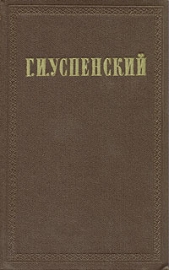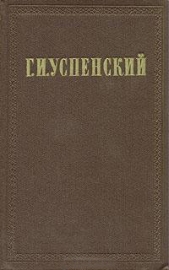Голубой человек
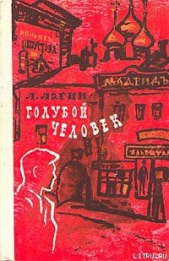
Голубой человек читать книгу онлайн
Л. Лагин – автор известных романов «Патент АВ», «Остров разочарования», «Атавия-Проксима», повестей «Старик Хоттабыч», «Белокурая бестия», «Майор Велл Эндъю», «Съеденный архипелаг»; цикла сатирических «Обидных сказок».
Роман «Голубой человек», несмотря на положенную в основу его сюжета фантастическую предпосылку, меньше всего является фантастическим в обычном значении этого слова. Сатирическая заостренность сочетается, в нем с реалистической достоверностью.
Герой романа Георгий Антошин – советский молодой человек, рабочий и студент-заочник, удивительным, необъяснимым путем попадает в Москву 1894 года, проводит в ней несколько месяцев, полных встреч, раздумий, переживаний, и, наконец, снова возвращается в Москву самого конца пятидесятых годов двадцатого века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она сунула Шурке в ладошку две копейки на леденцы. Шурка была хорошо воспитана, стала отказываться. Тогда Дуся насильно втолкнула ее в крохотную лавчонку, прочно провонявшую керосином, селедкой и экономическим мылом Жукова и компания…
XIII
Вдоль Бронной дул противный ветер, и они вскорости продрогли до костей. Шурка посинела, ее стало трясти, и Дуся настояла, чтобы она возвращалась домой. А сама она подкарауливала Ефросинью на улице еще добрый час-полтора.
Пошел десятый час, и не было ни Ефросиньи, ни Полины. Теперь уже совсем скоро Надо было уходить, а ничего еще не было сделано; чтобы отвратить угрозу, нависшую над Дусей. Уж во всяком случае раньше субботы теперь Дусе к Малаховым не выбраться. А чем к Сашке идти, лучше в прорубь… Значит, завтра вечером Сашка, еще, может быть, повременит, а уж послезавтра с утра обязательно заявится к Малаховым, и тогда Дусе больше в этом доме не бывать… А потом еще к Лукерье Игнатьевне придет то самое, страшное уведомление из полиции, о котором грозился Сашка, и тогда девице Грибуниной Евдокии путь или на бульвар, или в петлю.
Она сидела как на угольях, не отрывая глаз от дверей, и бедная Шурка, которой от волнения и сострадания даже леденцы в рот не лезли, предприняла последнюю, отчаянную попытку развлечь Дусю. Она, такая самолюбивая, так старательно разыгрывавшая из себя в последнее время взрослую барышню, вдруг напустила на себя неправдоподобна густую дурость: предложила взрослой тете Дусе, чтобы скоротать время, тихо-тихо сыграть с нею в игру «Барыня прислала сто рублей». Не стала дожидаться Дусиного согласия. «Барыня прислала сто рублей, сто копеек, сто грошей. Что хотите, то купите, белого и черного не берите, „да“ и „нет“ не говорите!» – выпалила единым духом и сразу задала принятый в таких случаях коварный вопрос: «Вы поедете на бал?»
По правилам нельзя было отвечать «да», «нет». Полагалось сказать: «Поеду». Конечно же Дусе это было отлично известно: в приютах эта игра была так же известна, как и на воле. Но вместо правильного ответа Дуся вдруг в голос, по-бабьи, завыла и, прежде чем Степан и Шурка успели ее задержать, простоволосая, расстегнутая, выбежала из подвала на улицу.
Шурка кинулась за нею.
– Шубейку! – крикнул ей Степан. – Шубейку надень!.. Простудишься!..
Значит, против того, что Шурка кинулась вслед за Дусей, он не возражал. Это тоже кое-что значило.
Щурка на бегу натянула на себя шубейку, стремглав выскочила на Бронную. Дуся была уже у поворота на Страстную, растрепанная, худенькая, она бежала, расталкивая пешеходов, то пропадая за их спинами, то снова на миг возникая.
Второй раз в своей короткой жизни Шурка вплотную сталкивалась с большой человеческой бедой. Впервые это было, когда умирал, Конопатый. Но тогда Шурке было понятно, что тут уже никто ничем помочь Конопатому не может: чахотка, одно слово. И вот теперь, с Дусей, происходило что-то странное и жуткое, и девочка каким-то еще не осознанным чутьем угадала, что Дусино горе – все от людей, что творится с Дусей какая-то страшная беда, которой не случилось бы, если бы люди ей чем-то вовремя помогли.
Шурка бежала за Дусей, испуганная, плачущая, переполненная огромной жалостью к Дусе, какой-то раздирающей сердце болью, непосильной для маленькой, девятилетней девочки.
Она тоже мчалась напрямик, тоже расталкивала прохожих, ей тоже вслед неслись негодующие возгласы, упреки, ругань и угрозы отодрать за буянство как Сидорову козу.
– Тетя; Дуся! – кричала Шурка, перекрывая своим звенящим детским голоском разноголосые густые шумы площади. – Тетя Дусенька, милень-ка-я-а!.. Куда это вы убежали!.. Тятя вам велел обратно воротиться!..
Она уже пересекала поблескивавшие желобчатые коночные рельсы, она уже видела растрёпанную, тяжело дышавшую Дусю. Дуся сидела на открытой всем ветрам скамейке павильона конных городских железных Дорог. Шурка уже совсем хорошо видела каждую черточку Дусиного страшно неподвижного и очень белого лица, каждую складочку, темневшую на порыжевших буфах ее старенького сака. Но самое страшное было, что Дуся смотрела прямо в лицо быстро приближавшейся Шурке и словно ее не видела. А потом она вроде бы только что увидела Шурку, резко от нее отвернулась, как если бы это была не Шурка, а Сашка Терентьев, выхватила из кармана и с маху опрокинула себе в рот водочную бутылку с темной и пенистой, как квас, жидкостью. Но это не был квас. Шурка успела заметить, каким страшным напряжением воли Дуся заставила себя осушить эту бутылку до дна, и как это ей, судя по ее перекосившемуся лицу, было не по-человечески больно, и как из уголков ее рта, пенясь, текли черные струйки. (Кислота! – поняла вдруг Шурка. Она уже слышала о том, как девушки травились кислотой, но дошло это до нее только сейчас.) Шурка даже успела увидеть, как двое прохожих пытались вырвать из Дусиных рук эту страшную бутылку и у них ничего не получилось: с такой, силой Дуся в нее вцепилась! И это было последнее, что девочка успела увидеть, и она потеряла сознание.
Их обеих добрые люди, свирепо расталкивая зевак, отнесли в аптеку, которая была тут же рядышком, под рукой, только пересечь рельсы, шагах в десяти, не больше. Щурку вскоре привели в себя. Случившийся поблизости знакомый Малаховых, невзирая на Шуркины сопротивление и рыдания, отвел ее домой. Ефросинья уже вернулась, и, кажется, с деньгами, беседовала с подоспевшей Полиной, волновалась насчет Дуси. Ефросинья осталась с лежавшей пластом, совсем обессилевшей Шуркой, а Степан с Полиной побежали в аптеку, но Дуси там уже не было. Приехала карета «Скорой помощи», увезла Дусю в Екатерининскую больницу. Там Дуся в пятом часу утра и скончалась.
Ее похоронили на Ваганьковском кладбище, за оградой, как всех самоубийц. Шурка, Ефросинья, горбатый студентик со смешной фамилией Цыпкин плакали. Полина стояла у гроба, прямая, строгая, молчаливая, с сухими глазами. Возвращаясь с кладбища, она все без утайки рассказала Ефросинье, все, что знала о Дусе, Егоре и Сашке Терентьеве, даже о том, что Егор был против царя и говорил, что власть должна принадлежать мастеровым людям…
А Шурка шла между матерью и Полиной, держась за их руки, все-все слушала, ни одного вопроса не задала, но все запомнила.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
I
Он все-таки вспомнил это слово!
Всю ночь проворочался на койке: никак не мог вспомнить. В камере было еще темно, как в подземелье, когда в его сознании снова всплыла эта идиотская неувязка с «Воскресением». Надо ж было рекомендовать Дусе роман, который, еще не был написан!.. С его стороны это был форменный… Что форменный?.. Форменный что?.. Забыл!.. Забыл такое простое слово!.. Вертится на самом кончике языка и, хоть тресни, не дается!.. Иностранное. Солипсизм?.. Нет, не солипсизм… Архаизм?.. Нет, и не архаизм!.. Похожее на архаизм, но не архаизм… Алогизм?.. Абсентеизм?.. Иностранное и определенно кончается на «изм»… Пунктуализм?.. Анекдотизм?.. Проклятое слово! Он должен был, во что бы то ни стало должен был его вспомнить!
Камеру медленно и скупо заливало сероватой голубизной рассвета. Сначала потолок, затем постепенно противоположную окну стену с железной дверью, остальные стены, пол, парашу, откидной железный столик, ноги Антошина. Наконец брызнули первые лучи солнца, отпечатали на потолке непомерно густые и длинные тени решетки. Потом стало совсем светло, и на карнизе по ту сторону решетки показался дрозд. Озабоченный, жизнерадостный, отлично выспавшийся, он настучался в окошко своим желтым клювом, таким ярким, словно его специально покрасили к Первому мая.
Зто сравнение рассмешило Антошина и тогда само по себе пришло наконец то слово, которое так старательно скрывалось от него всю эту долгую апрельскую ночь: «анахронизм»!
В первомайском номере советской газеты это; сравнение было бы к месту: вся страна прихорашивалась к весеннему празднику. Но в тысяча восемсот девяносто четвертом году оно конечно же было форменным анахронизмом.