Мальвиль
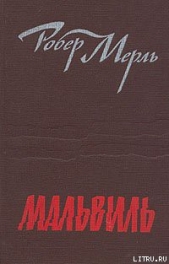
Мальвиль читать книгу онлайн
Роман-предостережение известного современного французского писателя Р. Мерля своеобразно сочетает в себе черты жанров социальной фантастики и авантюрно-приключенческого повествования, в центре которого «робинзонада» горстки людей, уцелевших после мировой термоядерной катастрофы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дождь и снег в башню не попадали. Ребристые сводчатые потолки устояли перед натиском времени. В нашем пристанище имелась также печка и, кроме того, стол, табуретка и старый тюфяк, покрытый мешками.
Мы умели хранить свою тайну. Уже целый год как мы оборудовали себе этот уголок, но никто из взрослых о том не догадывался. Вот в этом убежище я и решил укрыться до начала учебного года. По дороге я сумел перекинуться словечком с Коленом, он обо всем расскажет Мейсонье, тот – Пейсу, а Пейсу – уже всем остальным. Так что, пустившись в эту авантюру, я принял меры предосторожности.
Я провожу в заточении весь вечер, ночь и весь следующий день. Это вовсе не так приятно, как представлялось мне вначале. Стоит июль, и мои товарищи помогают взрослым в поле, я увижу их не раньше вечера. Сам я не решаюсь высунуть нос из Мальвиля. Из «Большой Риги», верно, уже сообщили жандармам.
В семь часов раздается стук в дверь. Я жду долговязого Пейсу, он должен подбросить мне пропитание. Отодвинув задвижку, я грубо кричу со своего сурового ложа, где целый день провалялся с полицейским романом в руках:
– Входи, кретин здоровый!
Входит мой дядя Самюэль. Он протестант, отсюда и его библейское имя. Вот он предо мной, собственной персоной, в клетчатой рубахе с распахнутым на сильной шее воротом и в старых галифе (он служил в армии в кавалерийских частях). Он стоит в проеме низкой двери, касаясь лбом каменной перемычки, и, нахмурившись, смотрит на меня, но я вижу, что его глаза смеются.
Мне бы хотелось остановить этот кадр. Ведь растянувшийся на тюфяке мальчишка – это я. Но и стоящий на пороге дядя – тоже я. В ту пору дяде Самюэлю было на год меньше, чем сейчас мне, а все в один голос утверждают, что между нами разительное сходство. Мне кажется, что в этой сцене, где было сказано так мало слов, я вижу, как сошлись вместе мальчуган, каким я когда-то был, и взрослый мужчина, каким я стал теперь.
Нарисовать портрет дяди – это почти что изобразить самого себя. Дядя был мужчиной высокого роста, крепкого телосложения, очень широкоплечий, но с узкими бедрами, на его квадратном, опаленном солнцем лице над голубыми глазами будто углем были нарисованы густые брови. У нас в Мальжаке люди необычайно словоохотливы. Но дядя предпочитал молчать, когда сказать ему было нечего. А если он говорил, то говорил очень кратко, без лишних слов, сразу о главном. И жесты у него тоже были скупые.
Особенно мне нравится в нем твердость характера. Ведь в моей семье и отец, и мать, и сестры – все такие вялые. Нет у них четкости в мыслях. И речи как-то растекаются.
Меня также восхищает дух предпринимательства, живущий в дяде. Он давно распахал все принадлежащие ему земли. Запрудив один из рукавов Рюны, он устроил садки, и у него там водится форель. У дяди прекрасная пасека с двумя десятками ульев. Он даже купил по случаю счетчик Гейгера и собирается поискать уран в вулканической породе, выступающей на склоне холма. А когда повсюду начали появляться ранчо и коневодческие фермы, он тут же продал коров и стал разводить лошадей.
– Я знал, что ты здесь, – сказал дядя.
Я уставился на него, онемев от изумления. Но уж мы-то с ним хорошо понимали друг друга. И дядя тут же ответил на мой безмолвный вопрос.
– Все доски, – сказал он. – Доски, которые ты прошлым летом спер у меня из сарая. У тебя не хватило силенок тащить их, и ты тянул их по земле. Вот я и пришел сюда по твоему следу.
Значит, целый год ему была известна наша тайна! И он никому и словом не обмолвился, даже мне ничего не сказал.
– Я проверил, – продолжал он. – На галерее вокруг донжона вроде бы все в порядке, больше с нее уж ничего не грохнет.
Меня захлестнула волна благодарности к дяде. Значит, он тревожился за меня, следил, чтобы тут со мной ничего не случилось, но не говорил об этом, не докучал мне. Я взглянул на него, но дядя отвел глаза в сторону – недоставало еще расчувствоваться. Он схватил табуретку, проверил, устойчива ли она, и, широко расставив ноги, оседлал ее, словно лошадь. И тут же понесся галопом прямо к цели.
– Вот что, Эмманюэль, они никому ничего не сказали. Даже жандармам не заявили. – Он улыбается. – Ты же знаешь ее – больше всего боится, как бы люди не стали судачить. Я тебе вот что хочу предложить. Поживи-ка у меня до конца каникул. А когда начнется учебный год, тут все само собой образуется, ты снова вернешься в свой пансион в Ла-Роке.
Молчание.
– А по субботам и воскресеньям? – спрашиваю я. У дяди вспыхивают глаза. Я перенимаю его манеру: разговариваю полунамеками. Если я мысленно уже «вернулся» в школу, выходит, я согласен пожить до конца каникул в его доме.
– Если хочешь, будешь приезжать ко мне, – говорит он поспешно, махнув рукой.
Снова недолгое молчание.
– Время от времени будешь обедать в «Большой Риге».
Этого совершенно достаточно, чтобы соблюсти приличия, любящая моя мамочка. Я прекрасно понимаю, что подобное соглашение всех вполне устроит.
– В общем, – легко вставая с табуретки, говорит дядя, – если согласен, затягивай свой мешок и топай ко мне, на берег Рюны, я там заготавливаю корм для лошадей.
Дядя тут же уходит, а я уже затягиваю свой вещевой мешок.
Пробравшись через туннель в кустарнике и лазейку в колючей проволоке, я скатываю под горку на велике в старое русло пересохшей ныне речушки, отделяющее отвесный утес Мальвиля от холма с пологими склонами, принадлежащего дяде. Я до смерти рад, что наконец выбрался из своего убежища. В ложбине царит полумрак; деревья, которыми поросли развалины крепостных стен, отбрасывают мрачные тени, и я вздыхаю полной грудью, только когда вырываюсь на простор, в залитую солнцем долину Рюны. Самым чудесным, предзакатным солнцем, какое бывает только летом на ущербе дня.
Дядя открыл мне волшебство этого часа. В знойном воздухе разливается томительная нега. На всем лежит золотистый свет, изумрудом наливается зелень лугов и длиннее становятся тени. Я прямиком лечу к красному дядиному трактору. За трактором тянется прицеп с высоченной кучей пожелтевшей травы. А еще дальше, вдоль берега Рюны, высаженные ровными рядами, шелестят серебристой листвой тополя. Я люблю этот шум, он напоминает мне веселый летний дождь.
Дядя молча подхватывает мой велосипед, забрасывает его на верхушку стога и привязывает веревкой. Затем снова берется за руль трактора, я пристраиваюсь сбоку. Мы не произносим ни слова. Даже не глядим друг на друга. Но по тому, как слегка дрожит его рука, я догадываюсь, что он сейчас очень счастлив: наконец-то и у него появился сын, ведь моя тощая тетка так и не подарила ему ребенка.
Мену ждала меня на пороге дома, скрестив на плоской груди свои неправдоподобно худые руки. Ее иссохшее, словно у мумии, личико съежилось в улыбке. Ее слабость ко мне подкреплена той ненавистью, какую она питает к моей матери. И какую она питала к моей тетке при ее жизни. Не подумайте бог знает что. Мену не спала с моим дядей. Да и служанкой ее не назовешь. У нее есть своя земля и водятся деньжата. Дядя косит траву на ее лугах, она ведет его хозяйство, и он кормит ее.
Мену – олицетворение худобы, но худоба ее вовсе не унылая. Она никогда не ноет и даже ворчит както весело. Весит она сорок килограммов вместе со всем своим черным одеянием. Но ее маленькие черные глазки в глубоких глазницах так и горят любовью к жизни. Если сбросить со счета грехи молодости, Мену – воплощение всех добродетелей, куда входит и чрезвычайная бережливость. «Вот до чего экономия довела, – говорит дядя, – мяса-то на заднице совсем не осталось, сидеть не на чем».
И работает она как зверь. Надо видеть, с каким дьявольским проворством мелькают ее тоненькие как спички руки, когда она обрабатывает свой виноградник! А тем временем ее единственный восемнадцатилетний сын Момо тянет за веревку игрушечный паровозик и с упоением «дудукает».
Видимо, для того чтобы придать жизни какую-то остроту, Мену без конца спорит с дядей. Но дядя – ее бог. Сияние этого божества озаряет и мою персону. Готовясь встретить меня в «Семи Буках», Мену закатила такой обед, что мне пришлось распускать пояс. Понятно, не без задней мысли она увенчала обед огромным сладким пирогом. Если бы я был киношником, я бы крупным планом изобразил этот пирог с наплывом на flashback (обратный кадр – англ.): год 1947, лето «до».
























