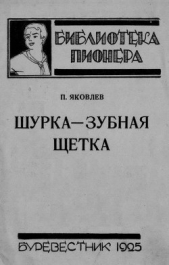Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов

Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов читать книгу онлайн
Он ушел из расстрельных подвалов ЧК. Он сохранил молодость и здоровье до наших дней. Он сберег талант, и в этом вы можете убедиться сами. Но за все это ему пришлось дорого заплатить. Опасности поджидали его на каждом шагу. И если бы не боевые товарищи, разве смог бы он посмотреть в глаза чудовищ? Пережить гиберборейскую чуму? Пройти из конца в конец земли под страшный для непосвященных марш экклезиастов? Рыцарь Музы. Отважный Лирник. Николай Степанович Гумилев. Романы о нем по праву можно отнести к жанру живой и даже "мгновенной" классики.
Впервые под одной обложкой - легендарная фантастическая трилогия!
Содержание:
1. Посмотри в глаза чудовищ
2. Гиперборейская чума
3. Марш экклезиастов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да тьфу на тебя! Начитался романчики. Кабы чего доброго… Запоминай: если женщина просыпается неожиданно, а ты к ней с букетом — ты как есть дурак. У умного будет горячий завтрак, горячая ванна и во что переодеться. Чистое! И как у вас потом не сложится, она тебя за это всегда с уважением вспомнит.
Правда, с женской рухлядью у Отто хуже некуда. Я у него рубашечку потоньше, помягше да подлиньше подыскал, поясочек, потом плед у него был царский, так я из него полушалочек сделал и вроде юбку.
И вот смех и грех, по дому шарю, консерву нашёл, сухари, масло топлёное… Из наших — ну, кто войну пережил — ни один без запасу себя не мыслит, НЗ — это столько должно быть: чтобы за две недели небольшой отряд отожраться мог и в себя прийти с голодухи. И вдруг чувствую — а за пазухой что-то такое забытое и нехорошее ворочается: трофеи! Трофеи я ищу. И глаз уже другой — а где тут наша немчура чего спрятала… Как я это понял, плюнул, прости господи, и ходу. Прощения у Отто попросил — мысленно, конечно. Я ж знаю, Отто святой человек, так зачем его во искушение вводить и про мои мысли дурацкие рассказывать.
Ну вот. Теперь дальше. Намылась она у меня, прихорошилась, наелась и давай по дому шастать. Там ведь забавностей много, штуковин всяких, какие и не увидишь теперь. Одних салфеточек на два музея хватит. Каких салфеточек? Кружевных. Уж и не знаю, сам Отто их из философических размышлений вяжет или от бабки своей сберёг, а то и прабабки… Ох Стёпка, зажились мы, похоже, всё пра— да пра-… И подлость ведь какая, с виду я — дед, годов мне — ещё больше, а внутри-то я вполне себе… мужчина в возрасте. Во-во, в самом расцвете сил. Гляди, пацан — а такие хорошие выражения знаешь.
И Руженка моя — щебечет, прыгает, опять в снежки потащила, потом оленей-лосей кормить… Чуток только поспорили, когда я у ней мобильник отобрал. Звонить он там всё равно не звонит, а фотографировать без спросу нехорошо. Она пообижалась немного, да и замёрзла. Я её в охапку, бегом домой, отогревать, оттаивать. На пальчики ей дышу — а сам дышать боюсь, догадается ведь.
И верно, догадалась. Руки вдруг отняла, к груди прижала — вроде как молится, а потом спрашивает: сколько нам здесь быть? Я честно отвечаю: считай, неделя, никак не меньше. Можем в тот дом вернуться, но легче не станет. Дождь у нас — это Дождь. Завтречка сбегаю сам, позвонить попробую, еды достану, а ты с лосями дружи, где тебе ещё такой Диснейленд. Не хочу, говорит, с лосями — и на меня смотрит. И я, дурак, смотрю. Она ручку свою протягивает и мне волосы ерошит. Какие, говорит, мягкие, белые, лучше снега…
Тут, Стёпка, вся моя стойкость и закончилась. Про остальное я тебе говорить не буду, сам, когда надо, разберёшься. Ну там, каждое утро, пока Руженка нежилась, бегал я обратно, смотрел: идёт ли дождь. И каждый раз радовался: дождь лил так, будто ангелы небесные против ада диверсию запустили, все котлы затушить хотят… и значит, ещё сутки у нас. Ещё одни сутки. Да, в одну такую вылазку я дозвонился-таки до наших, сказал, что к чему. То есть просто сказал, что застрял по эту сторону речки и тихо спокойно жду, когда смогу перебраться. Ну, они там тоже по домам сидят, нос высунуть не могут… режиссёр слёзку пьёт и свой мотоцикл то разбирает, то собирает, то разбирает, то собирает… А-а, моё дело отчитаться: мол, все живы, скоро ждите. Потом немножко грабил холодильник Отто и возвращался на дачку. Как раз успевал, чтобы она мне со сна улыбнулась. И пружинками своими мне в ладони…
В общем, так: встречать её я поехал в понедельник. А в воскресенье побёг я отмечаться — а дождя-то и нету. То есть водой ещё сыплет, но это уже, почитай, для умывания. Часов несколько — и дороги будут езжие. И телефон как сбесился — где ж вы застряли, мы уж камеры расчехляем, режиссёр штаны чистые надел, без машинного масла и бензина чтобы, с новой актёркой знакомиться. Дороги ждём, отвечаю, не извольте беспокоиться, сей момент как сможем — вихрем доставлю, боец Пансков связь закончил. Повернулся кругом, честь отдал, даром что голова пустее парашюта. Всё, думаю, теперь как Руженка решит, так оно и будет.
Она спала ещё.
Я кофе сварил, гренки пожарил. Вру, кофе сбежал, гренки пожёг. Руки до ниже пола опускаются. Первый раз пропустил, как она глаза открывает. Она уж и прибежала, а я не слышу ничего. На морду мою глянула — и поняла. Дождь кончился? — спрашивает. Надо собираться?
Я не дышу. Она, ручки опять к груди прижала, грустно-грустно так вздохнула и говорит: украли у нас один день из нашей недели. Жалко, говорит.
Я опять не дышу. Уже в глазах мутнеет, а я не дышу. Ты расстроен? — говорит. Не надо, Филипп, не расстраивайся. Это была очень хорошая неделя. Я тебя никогда не забуду. Это как «Римские каникулы». Ты не знаешь? Это такой фильм. Я тебе подарю.
И пошла собираться.
Я дышать пытаюсь, а не выходит. Насилу вспомнил, как это делается. Она ж без меня отсюда не выберется ни черта, а Отто — он ещё когда появится, старый пень.
Перешли из зимы в лето, под ногами чавкает, жарко, Руженка притихла. Загрузились в мою старушку. Довёз. Встречали нас — как будто мы из индейского плену выбрались. Руженка со всеми перезнакомилась, перецеловалась, всё меня нахваливает, как я её спас да как заботился. Белорусским богатырём называет. При всех поцеловала, «дзенькую», говорит, и для остальных ещё «гранмерси». Выпили все за моё здоровье — и вмиг забыли. Одна Маконда у них на уме. Пока простаивали, у режиссёра ихнего идей много появилось, все попробовать надо…
Поглядел я, как моя рыжая белочка по площадке скачет, и убрёл. На дачку вернулся. Сел на диванчик на кухне. Сижу, по сторонам смотрю. Думаю вроде.
Потом дверь открывается, и входит Отто. Раненько он заявился, ещё не рассвело даже.
Ну, поздоровались. Обниматься не стали, он этого не понимал. Говорит: я так и думал, что это ты. Я, мол, в среду домой за тележкою забегал и заметил, что кто-то сидел на моём стуле… И тут он видит две тарелочки на столе, две чашки, два стаканчика, полушалочек через спинку стула, уже с оборочками и пуговкой — и резко подбирает зоб.
А я руками развёл, давай, говорю, сходим с тобой, друг Отто, за яблочным шнапсом, выпьем на помин последней моей любви.
И ведь ты мне смеялся, а Отто и правда святой человек. У него просто характер гнусный — так будешь тут с гнусным характером, при такой жизни. Но за шнапсом он сам пошёл. И вопросов не задавал.
Слушай, а чегой-то я заболтался так, а? Ну-ка, давай делом займёмся, и уши подбери, чего им по полу валяться?..
12
Только один человек меня понял. Да и тот меня понял превратно.
— Я, кажется, кое-что понял, но похоже, что без словаря… — Николай Степанович опустил листок и огляделся, как бы ища подсказки на стенах. Чем-то это напомнило ему гимназический экзамен по геометрии… — В общем, я ни в чём не уверен.

— Может быть, попробую я? — предложил Шаддам, и Николай Степанович с готовностью протянул ему пергамент. Шаддам несколько минут всматривался в буквы, потом сказал: — Понятно. Это частью древний иврит, отчасти арамеит. Так тогда часто писали. Явно письмо…
Он прикрыл глаза и начал читать — негромко и почти без выражения. Сначала все слушали гортанную древнюю речь, потом — мягкую русскую.
Иосиф, сладость и свет моего изболевшегося сердца!
С радостью, не знающей границ, услышал я чудесную весть о рождении твоего сына и о том, что он здоров и ясен, и что здорова твоя молодая жена, цвет славного города Еммауса и цвет всей Иудеи, и желаю я им счастья и процветания под сенью твоего могучего крова на две тысячи лет.
Весть эту благую принёс мне греческий врач Финоген третьего дня, и я тут же заглянул в свои книги. Ты знаешь, что мы живём в интересное время, и никогда не вредно спросить, что думают о нас звёзды и что нашёптывает вода в колодце.
В тот день в мире родились один пророк и один праведник!
Пророк в отечестве не имеет пристанища. Иногда он подобен буйной поросли на вершине одинокой горы, иногда он наг и празден среди городской суеты. Порой он является как разъярённый демон с тремя огнедышащими пастями. Порой он излучает безмерное сострадание, как ангел солнечного лика и ангел лунного лика. По одной пылинке он воссоздаёт все горы мира, а по одной капле — океаны. Он даст ввергнуть себя в грязь и муки, дабы спасти всех живущих. Если он вдруг воспарит в небеса, то и око ангела не уследит за ним. И пусть явятся хоть тысячи учителей веры — всё равно они будут отстоять от него на тысячи стадий.
Есть ли кто-нибудь в мире, кто этого достиг? Был ли?
Праведник же подобен светлому зеркалу, красота и уродство рядом с ним разделяются сами собой. Весь мир не вместит его: он же открыт для всех. Он ничем не связывает себя и всякий миг сам себя превозмогает. В речах он всегда беспристрастен — и всюду лишает людей покоя жизни. Но скажи мне: куда уходили древние, дабы пребывать в покое?
Держа в руке сияющий меч, казнишь или даришь жизнь не по прихоти железа, а по воле Всевышнего. Род приходит и род уходит, и в смерти откроешь ты жизнь, а в жизни отыщешь смерть. Но когда ты достигаешь этого, как тебе быть дальше? Без глаза, проницающего все препоны, и не имея опоры в пустоте, не будешь знать, что делать. Но кем ты станешь, обретя глаз, проницающий все препоны, и опору там, где нет опоры? Я много раз спрашивал себя об этом, находил ответ — и пугался ответа.
Будь безмятежен, ни за что не держись, и на медной смоковнице распустятся цветы. Есть ли что-нибудь в том, что есть?