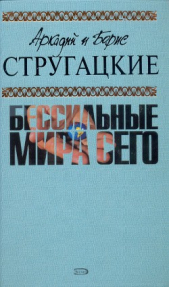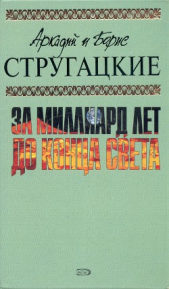Том 7. 1973-1978
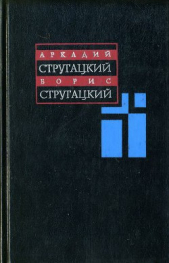
Том 7. 1973-1978 читать книгу онлайн
В седьмой том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1973 по 1978 годы: "За миллиард лет до конца света", "Град обреченный", "Повесть о дружбе и недружбе".
Том дополняют комментарии Б.Стругацкого к данным произведениям
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно было избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на свою дурость... А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска...
Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая, — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю — за что, догадываюсь — кто... и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал...) И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое... Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий... Телевизор можно было бы наконец купить на радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино... В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар... А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает...
Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения — 1939... Что такое? Фотография была Иркина... Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.
Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там, под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: «Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..» Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? «Я храпела, да?» — спросила Ирка сонным голосом и заснула снова.
Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул от себя подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.
Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения — 1933. Ч-черт... Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами — все ведь это не случайно... Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая... Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть... Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшные свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки; задрав хвост, удирает под диван кошка, которой наступили на лапу... Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке...
Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму... А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... Семья, может быть, тоже другая... С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. Глухие... Глухов... И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.
То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете, наверное, можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать! Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять лет — всю жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям... М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век... Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация...
Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут... Мать моя, мамочка! Шесть часов. Солнце уже вовсю жарит.
И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол, вытащил свои бумаги и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.
Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.
Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.
И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка, обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.
— А? — произнес я и распрямил спину.
Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием засыпают, так же легко и с удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия на свете не заставит их проваляться, скажем, до полудня.