Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник)
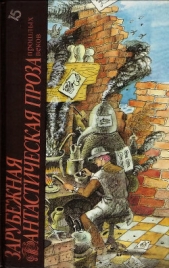
Зарубежная фантастическая проза прошлых веков (сборник) читать книгу онлайн
В настоящий сборник включены произведения предшественников научного социализма, в художественной форме знакомящие читателя с идеями коренного преобразования общества; «Утопия» (1516) Томаса Мора, родоначальника жанра утопического романа, «Город Солнца» (1602) Томмазо Кампанеллы, философский роман Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1657), философский и социальный роман идеолога «мирного коммунизма» Этьена Кабе «Путешествие в Икарию» (1840), а также остросюжетное произведение Гилберта Честертона, написанное в жанре «антиутопии» — «Наполеон из Ноттинг-Хилла» (1904), предупреждающее людей об опасности фашизма задолго до его появления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот, мама, какой большой остолоп, а все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто мальчишка!
А родительница отвечала также вполне серьезно:
— Молчи, сынок, это, думаю я, кто-нибудь из посольских шутов.
Другие осуждали упомянутые золотые цепи, говоря, что они ни на что не пригодны, так как настолько тонки, что раб может их легко разбить, а с другой стороны, настолько просторны, что, когда ему захочется, он может стряхнуть их и убежать куда угодно, развязанный и свободный.
Но пробыв день-другой, послы увидели там огромное количество золота и заметили, что оно ценится утопийцами весьма дешево и находится у них в таком же презрении, как у них самих в почете, и что, сверх того, на цепи и оковы одного беглого раба потрачено больше золота и серебра, чем сколько стоила вся пышность их троих. Поэтому у послов опустились крылья, и они со стыдом убрали весь тот наряд, которым так надменно кичились, особенно когда более дружески поговорили с утопийцами и узнали их обычаи и мнения. Именно, у утопийцев вызывает удивление следующее: как может кто-нибудь из смертных восхищаться сомнительным блеском небольшой жемчужинки или самоцветного камушка, раз такому человеку можно созерцать какую-нибудь звезду или, наконец, само солнце; затем может ли кто-нибудь быть настолько безумным, что вообразит себя более благородным из-за нитей более тонкой шерсти, раз эту самую шерсть, из каких бы тонких нитей она ни была, некогда носила овца и все же не была ничем другим, как овцой. Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле золота; и дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как и глуп, имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет; ну, а если судьба или какой-нибудь подвох законов (который нисколько не меньше самой судьбы способен поставить все вверх дном) перенесет эту кучу от упомянутого господина к самому презренному бездельнику из всей его челяди, то в результате, несколько позже, господин переходит в услужение к слуге, как привесок и придаток к деньгам. Но гораздо большее удивление и ненависть вызывает у утопийцев безумие того, кто воздает чуть не божеские почести богачам, которым он ничего не должен и ничем не обязан; он поступает так только из уважения к их богатству и в то же время признает их в высшей степени жадными и скупыми и вернее верного понимает, что при жизни этих богачей из такой огромной кучи денег ему никогда не перепадет ни одного грошика.
Подобные мнения утопийцы отчасти усвоили из воспитания, так как выросли в такой стране, учреждения которой очень далеки от упомянутых нелепостей, а отчасти из учения и литературы. Правда, в каждом городе имеется лишь немного лиц, которые освобождены от прочих трудов и приставлены только к учению, — это именно те, у кого с детства обнаружились прекрасные способности, выдающийся талант и призвание к полезным наукам, — но дети учатся все, и значительная часть народа, мужчины и женщины, проводит и учении те часы, когда, как сказано было раньше, они снобо/рты от работ. Учебные предметы они изучают на своем языке. Он не беден словами, не лишен приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей. Этот же язык, только везде в более испорченном виде, в разных местах по-разному, распространен в значительной части того мира.
До нашего прибытия они далее и не слыхивали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире. И псе же и музыке, диалектике, науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние (философы). Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Именно, они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой «Малой логике», об ограничениях, расширениях и подстановлениях. Далее, так называемые «вторые интенции» не только не подвергались у утопийцев достаточному обследованию, но никто из них не мог видеть так называемого «самого человека вообще», хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное, больше любого гиганта, и мы даже пальцем на него можем показать. Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели приборы различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движение и положение Солнца, Луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте. Но они даже и во сне не грезят о содружествах и раздорах планет и о всем вздоре гадания по звездам. По некоторым приметам, полученным путем продолжительного опыта, они предсказывают дожди, ветры и прочие изменения погоды. Что же касается причин всего этого, приливов морей, солености их воды и вообще происхождения и природной сущности неба и мира, то они рассуждают об этом точно так же, как наши старые философы; отчасти же, как те расходятся друг с другом, так и утопийцы, приводя новые причины объяснения явлений, спорят друг с другом, не приходя, однако, во всем к согласию.
В том отделе философии, где речь идет о нравственности, их мнения совпадают с нашими: они рассуждают о благах духовных, телесных и внешних, затем о том, присуще ли название блага всем им или только духовным качествам. Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии. Но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью, они, по-видимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие; в нем они полагают или исключительный, или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга. Они никогда не разбирают вопроса о счастье, не соединяя некоторых положений, взятых из религии, с философией, прибегающей к доводам разума. Без них исследование вопроса об истинном счастье признается ими слабым и недостаточным. Эти положения следующие: душа бессмертна и по благости божией рождена для счастья; наши добродетели и благодеяния после этой жизни ожидает награда, а позорные поступки — мучения. Хотя это относится к области религии, однако, по их мнению, дойти до верования в это и признания этого можно и путем разума. С устранением же этих положений они без всякого колебания провозглашают, что никто не может быть настолько глуп, чтобы не чувствовать стремления к удовольствию дозволенными и недозволенными средствами; надо остерегаться только того, чтобы меньшее удовольствие не помешало большему, и не добиваться такого, отплатой за которое является страдание. Они считают признаком полнейшего безумия гоняться за суровой и недоступной добродетелью и не только отстранять сладость жизни, но даже добровольно терпеть страдание, от которого нельзя ожидать никакой пользы, да и какая может быть польза, если после смерти ты не добьешься ничего, а настоящую жизнь провел всю без приятности, то есть несчастно. Но счастье, по их мнению, заключается не во всяком удовольствии, а только в честном и благородном. К нему, как к высшему благу, влечет нашу природу сама добродетель, которой одной только противная партия усвояет счастье. Добродетель они определяют как жизнь, согласную с законами природы; к этому мы назначены богом. Надо следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму в решении вопроса, к чему надо стремиться и чего избегать. Разум прежде всего зажигает у людей любовь и уважение к величию божию, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что можем обладать счастьем. Во-вторых, разум настойчиво внушает нам и самим жить в возможно большем спокойствии и радости, и помогать всем прочим, по природной связи с ними, в достижении того же самого. Не было никогда ни одного столь сурового и строгого приверженца добродетели и ненавистника удовольствия, который бы советовал тебе только труды, бдения и суровость, не предлагая в то же время посильно облегчать нужду и неприятности других и не считая этого похвальным во имя человеколюбия. Нет добродетели, более присущей человеку, и ему особенно свойственно, чтобы один служил на благо и утешение другому, смягчал тягости других и возвращал их, уничтожив печаль, к приятности жизни, то есть к удовольствию. Если это так, то почему природе не внушать каждому делать то же самое и для себя?


























