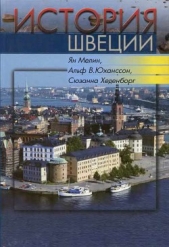Цвет надежд – зеленый

Цвет надежд – зеленый читать книгу онлайн
Герой или, скорее, персонаж повести Пер Густафссон, маленький человек, почти случайный преступник. Чтобы остаться со своими близкими, Густафссон соглашается на медицинское вмешательство, которое, по замыслу его инициаторов, должно столь же надежно, как тюрьма, держать преступника в изоляции, хотя и среди людей, одновременно сэкономив казне немалые суммы. На издевательский, по сути, характер наказания, которому подвергают Густафссона – его особым образом окрасили в зеленый цвет.
Очень скоро Густафссон, а еще скорее изобретатель вертотона доктор Верелиус понимают, что обществу совершенно безразлично – сидит ли преступник за решеткой или выставлен на всеобщее «презрительное обозрение». В конечном-то итоге, после ряда неожиданных поворотов в судьбе Густафссона, его, в сущности, предоставляют самому себе. Благодаря своим человеческим качествам он сохраняет и свободу и достоинство. В повести Хольцхаусена нет нарочитых фантастических эффектов, единственным фантастическим элементом текста остается медицинский эксперимент. Тем более «буднично», трезво и деловито, шаг за шагом, поворот за поворотом разоблачаются правы и порядки буржуазного «будущего» в Швеции, бессовестная игра средств информации и рекламы вокруг «необычного Густафссона», волей обстоятельств попавшего в свет рампы.
Ю.Кузнецов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Да, сперва он растерялся, но потом у него и на этот случай нашлась присказка: петух и соловей поют на разный лад.
– Старик верен себе. Что до меня, я-то, конечно, был соловьем… Вон сколько мне за это отвалят. Питание, дорога – все бесплатно. Хорошо быть актером на телевидении! Сама подумай, полторы тысячи только за то, что ты спел в микрофон свою любимую песню. С таким голосом, как у меня, я вполне мог бы у них выступать. А новое пальто ты себе все-таки купишь. На весну.
– Накрой, пожалуйста, на стол.
– Что у нас сегодня? – Он приподнял крышку. – Рисовый пудинг.
– С мясными тефтелями.
– В Стокгольме я привык к отбивным с зеленым горошком.
– Можешь съездить и пообедать в Стокгольме.
Постепенно к ним возвращался их прежний оптимизм, они могли снова шутить и поддразнивать друг друга.
Из школы пришли дети. Уве заявил, что в такой день полагается обедать не на кухне, а в гостиной.
– Не надо, – возразила Ингрид. – В кухне, как говорится, все под рукой.
– Не хватало, чтобы и ты заговорила поговорками, – сказал Уве. – Но в кухне нет почетного места!
– А ты собирался его занять? – съязвила Грета. – За какой же подвиг, интересно знать?
– Да не я, а папа! – Он повернулся к отцу. – Сегодня в школе все только и говорили, что о тебе. Тебе подобает сидеть на почетном месте. Честь и хвала нашему папочке!
У Густафссона было легко на сердце. Впервые за все это время он шел на работу в приподнятом настроении.
В наши дни стены уборных заменяют собой рунические камни – на них отражено все, чем интересуется эпоха. Внимательное изучение этих надписей может послужить материалом для солидной докторской диссертации. В начале века стены уборных были испещрены названиями частей тела, которые редко упоминаются в приличном обществе; иногда они сопровождались весьма откровенными комментариями.
По мере изменения общественных интересов менялись и надписи. Рост сексуального просвещения заметно ослабил интерес к прежним односторонним упражнениям. Стала доминировать политика. Тот, кого это удивляет, пусть вспомнит высказывание одного известного государственного деятеля: «Все – политика!» Не удивительно, что нынешние корифеи политики все больше вторгаются в сознание поклонников рунических надписей, отражающих интересы своего времени.
Люди, расписывающие стены уборных, и по сей день демонстрируют интерес к общественным проблемам, творя свой суд над всеми политическими партиями по порядку и выказывая готовность лишить жизни их руководителей, причем самым изощренным методом.
К актуальной политике примешиваются вопросы и более общего характера. Когда в тот вечер Густафссон в мастерской зашел в уборную, он увидел стихи, написанные красным мелком:
Краснеть в смущенье девушкам,
положено влюбленным.
А вот бывает, что иной
становится зеленым.
Зеленый я, зеленый ты,
зеленая жена судьи.
Кровь бросилась ему в голову и тут же отхлынула, щеки похолодели. С низко опущенной головой он вернулся в цех. Никто не глядел на него, и, казалось, ничего не заметил. Когда же, через несколько часов, он снова зашел в уборную, стишок был уже стерт.
В ту ночь он возвращался домой с чувством безысходности и отвращения, завладевшим им без остатка.
18
Утро вечера мудренее, говорят люди, полагая, что утром все беды кажутся не такими страшными; так обычно и бывает – неприятности неизбежно забываются, и человек тащит свою ношу дальше.
Но иногда сон не приносит облегчения, человек просыпается на рассвете и в серых сумерках понимает, что все осталось по-прежнему. Ему не удалось избавиться от шипов, застрявших в душе, они, несмотря на все мысли, продолжают колоться и причинять боль. Человек ест и чувствует боль, идет по улице и чувствует боль, бежит по лесу и смотрит, как просыпается весна – мглистая дымка висит в воздухе, снег уже почти сошел, обнажились прошлогодняя трава и увядшие листья, по озеру бегут свинцовые волны, у берега тают, шурша и позванивая, тяжелые ледяные глыбы.
Тот стишок написал человек, которого он не знает. Кто-нибудь из дневной смены; когда его смена, заступила на работу, он, верно, был уже написан. Должно быть, красовался там весь день – красный, мел на белоснежной кафельной стене. У того, кто его написал, было достаточно времени, чтобы придумать пародию, – все воскресенье. Целый понедельник она красовалась на стене уборной, и каждый, кто туда заходил, читал ее. Делал свое дело, читал и смеялся. Скоро кто-нибудь напишет, что у него и моча зеленая.
Всегда неприятно узнать, что у тебя есть недруг. Но хуже всего – неизвестный недруг. Его ни найти, ни избежать невозможно. С ним нельзя поговорить, нельзя его умилостивить или пригрозить ему взбучкой. А между тем его злоба преследует тебя повсюду.
Ингрид была дома, когда он вернулся из леса. Готовя чай, она болтала о всякой всячине. Она не умолкала ни на минуту, хорошее настроение еще не покинуло ее, но Густафссон слушал рассеянно и отвечал односложно, беседа не клеилась. Наконец Ингрид отставила чашку и подняла на него глаза. И пожелала узнать, что случилось.
– Ровным счетом ничего, – ответил он. – Все в порядке. Просто нет настроения разговаривать.
– Вчера ты был такой веселый.
– Нельзя всегда быть веселым. Я ночью почти не спал.
– Что-нибудь на работе?
Ему не хотелось пугать ее или причинять огорчение. Помочь она все равно не в силах. Он должен переболеть в одиночку. Густафссон через силу улыбнулся.
– Почему ты вдруг так подумала? Нет, там все, как обычно – фуганки, пилы, сверла, политура, клей… Мы изготовляем столько стульев и кресел – можно подумать, люди только и делают, что сидят, совсем, ходить разучились.
Он смеется. Она улыбается ему в ответ, по глаза у нее серьезные. Она уносит в кухню поднос с чашками, он слышит, как она моет посуду, ставит в холодильник сыр и масло, обычно она всегда напевает при этом, но сегодня молчит, наверно, ее что-то тревожит. Вернувшись в гостиную, она спрашивает у него без обиняков:
– Кто-нибудь смеялся над тобой? Из-за той передачи…
С чистой совестью он уверяет ее, что ему никто ничего не говорил. Ни словечка.
– Ни словечка, – повторяет он, поняв, что не следует выделять слово говорил. Ингрид очень наблюдательна.
Она, стоя, смотрит в окно, он сидит в кресле, оба молчат, погруженные в свои мысли, и оба скрывают друг от друга то, о чем думают.
– Во всем виновата погода, – говорит он. – Эта серость кому угодно подействует на нервы. – Он встает и берет газету: – Пойду, полежу.
Оставшись одна, Ингрид устало опускается на тахту, ей не хочется ничем заниматься, она тупо глядит в одну точку.
Звонок в дверь. Ингрид открыла. На площадке стоял неизвестный ей человек. Прикоснувшись к кепочке в знак приветствия, он шагнул ей навстречу.
– Густафссон дома?
– Да-а, – нерешительно протянула Ингрид, на площадке было темновато, и, казалось, человек лишен контуров. Ей не понравился исходивший от него запах, слабый, но все-таки ощутимый, пропитанный табачным дымом, пивным перегаром и не свежим бельем.
Незнакомец вошел в переднюю. Он протянул Ингрид руку и отвесил церемонный поклон.
– Если не ошибаюсь, вы его жена? А я, видите ли, его старинный приятель. Разрешите войти?
Он протиснулся мимо Ингрид в гостиную, остановился на пороге и огляделся.
Теперь он был хорошо виден. Ничего особенно подозрительного Ингрид в нем не заметила. Возможно, какой-нибудь знакомый по заключению.
– Мы вместе служили, – сказал он, словно угадав ее мысли. – В одной роте, в одном батальоне. Моя фамилия Фредрикссон. Но если вы просто скажете ему, что пришел Пружина, он меня сразу вспомнит.
Вон оно что, приятель по военной службе. По нему не скажешь: военная выправка, видно, давно стерлась с него. Впрочем, и служил он тоже бог знает когда. Судя по его не очень презентабельному виду, он мог быть лоточником, мелким дельцом, каким-нибудь «представителем» – словом, одним из тех неудачников, у кого полно идей, но кому лишь с трудом удается держать голову над водой. На нем были желтые грязные башмаки и непарные пиджак и брюки.