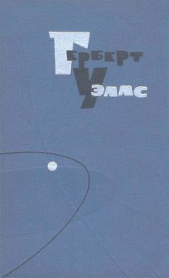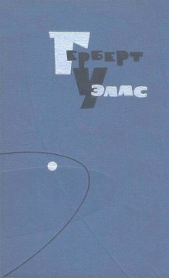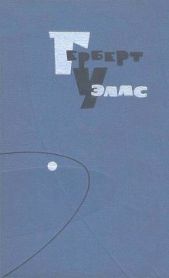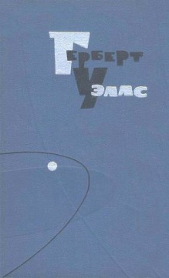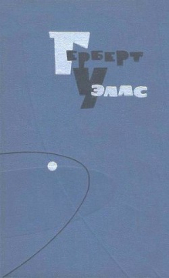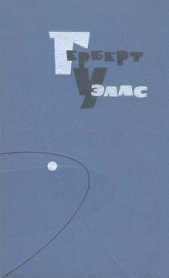Собрание сочинений в 15 томах. Том 7
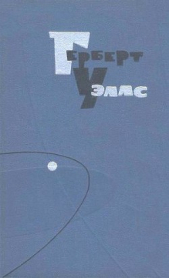
Собрание сочинений в 15 томах. Том 7 читать книгу онлайн
Г.Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах Том 7
Киппс (переводчик: Раиса Облонская)
В дни кометы (переводчики: В. Засулич, Эдвадра Кабалевская)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но мы в Англии видели или не видели все это глазами «Нового листка», наводившего на все некий невразумительный туман. Все мое отрочество от четырнадцати до семнадцати лет прошло под звуки этой бесплодной, пустой музыки: аплодисменты, волнения, пение и махание флагами, несчастия благородного Буллера и героизм Девета, который решительно всегда выходил сухим из воды, — в этом-то и заключается самое большое его геройство, — и мы ни разу не подумали, что все население страны, с которой мы воюем, не насчитывает и половины числа жителей, влачащих жалкое существование в пределах Четырех городов.
Но и до и после этого глупейшего столкновения глупостей назревал новый, более серьезный конфликт; он медленно, но настойчиво заявлял о себе, как о чем-то неотвратимом, порой на время затихая, но только для того, чтобы вспыхнуть с еще большей силой, а порой, сверкнув острой недвусмысленной идеей, просачивался в самые неожиданные области: это был конфликт между Германией и Великобританией.
Когда я думаю о постоянно возрастающем количестве читателей, целиком принадлежащих новому миру, у которых о старом мире сохранились лишь смутные воспоминания раннего детства, то испытываю большое затруднение, как описать им бессмысленную обстановку, в которой жили их отцы.
На одной стороне были мы, британцы, сорок один миллион человек, завязшие в бесплодной экономической и нравственной тине, не имеющие ни мужества, ни энергии, ни ума, чтобы улучшить наше положение, не осмеливавшиеся в большинстве даже думать об этом. При этом наши дела были безнадежно переплетены с не менее сумбурными, хоть и в ином роде, чем наши, делами трехсот пятидесяти миллионов других людей, разбросанных по всему земному шару, среди которых были и германцы — пятьдесят шесть миллионов людей, находившихся ничуть не в лучшем положении, и в обеих странах суетились маленькие, крикливые создания, издававшие газеты, писавшие книги, читавшие лекции и вообще воображавшие, что они-то и есть разум нации. С каким-то необычайным единодушием они побуждали — и не только побуждали, но с успехом убеждали — обе нации употребить тот небольшой запас материальной, моральной и интеллектуальной энергии, которым они обладали, на истребительное и разрушительное дело войны. И ни один человек не мог бы указать хоть какую-нибудь действительную, прочную выгоду, которая искупала бы истребление людей и вещей и все зло войны, одинаково неизбежное, какая бы сторона ни победила, чем бы война ни кончилась. Все это я должен сказать, хотя, может быть, вы мне и не поверите, ибо без этого невозможно понять мою историю.
Это было какое-то совершенно необъяснимое всеобщее наваждение, и в микрокосме нашей нации оно представляло любопытную параллель с эгоистической злобой и ревностью моего индивидуального микрокосма. Это наваждение указывало на то, что страсти, унаследованные нами от наших звероподобных предков, полностью преобладали над нашим разумом. Точно так же, как я, порабощенный внезапным несчастьем и злобой, бегал с заряженным револьвером, вынашивая в уме различные, неясные мне самому преступления, так и эти две нации рыскали по земному шару, сбитые с толку и возбужденные, с вооруженными до зубов флотами и армиями в полной боевой готовности. Только здесь не было даже Нетти для оправдания их безумия; не было ничего, кроме воображаемого соперничества.
И пресса была главной силой, натравливавшей эти два многочисленных народа друг на друга.
Пресса, эти газеты, такие непонятные нам теперь — все эти «Империи», «Нации», «Тресты» и другие чудовища того невероятного времени, — развились так же случайно и непредвиденно, как сорные травы в запущенном саду. Все тогда развивалось случайно, потому что не было в мире ясной, определенной воли, что могла бы направить его к чему-нибудь лучшему. Под конец эта «пресса» почти целиком попала в руки молодых людей особого типа, очень усердных и довольно неумных, которые не способны были даже понять, что у них, в сущности, нет никакой цели и что они с величайшим рвением и самоуверенностью стремятся к пустому месту. Чтобы понять то сумасшедшее время, коему положила конец комета, нужно помнить, что изготовление этих странных газет производилось с громадной затратой бесцельной энергии и с чрезвычайной поспешностью.
Позвольте описать вам очень кратко газетный день.
Вообразите себе наскоро спроектированное и наскоро выстроенное здание в одном из грязных, усыпанных клочьями бумаги переулков старого Лондона; через двери этого здания вбегают и выбегают с быстротой пушечного ядра люди в скверной, поношенной одежде, а внутри кучки наборщиков напряженно работают, — их всегда торопили, этих наборщиков, — у наборных касс, хватают проворными пальцами и перебрасывают с места на место тонны металла, точно в какой-то адской кухне. А этажом выше, в маленьких, ярко освещенных комнатах, точно в каком-то улье, сидят люди с всклоченными волосами и лихорадочно строчат. Звонят телефоны, постукивают иглы телеграфа, вбегают посыльные, носятся взад и вперед разгоряченные люди с корректурами и рукописями. Затем, заражаясь спешкой, начинают стучать машины, все быстрей и быстрей, с шумом и лязгом; печатники снуют около них с масляными лейками в руках, точно ни разу с самого дня рождения не успевшие вымыться, а бумага, содрогаясь, спешит соскочить с вала. Как бомба, влетает владелец газеты, спрыгнув с автомобиля, прежде чем тот успел остановиться, с полными руками писем и документов, с твердым намерением всех «подстегнуть», и точно нарочно всем только мешает. При его появлении даже мальчики-посыльные, ожидающие поручений, вскакивают и начинают бегать без всякого толку. Прибавьте ко всему этому беспрерывные столкновения, перебранку, недоразумения. С приближением рассвета все части этой сложной сумасшедшей машины работают все быстрее, почти доходя до истерики в спешке и возбуждении. Во всем этом бешено мятущемся здании медленно движутся одни только часовые стрелки.
Понемногу приближается время выхода газеты — венец всех этих усилий. Перед рассветом по темным и пустынным улицам бешено мчатся повозки и люди; все двери дома изрыгают бумагу — в кипах, в тюках, целый поток бумаги, которую хватают, бросают с такой яростью, что это похоже на драку, и затем с треском и грохотом все разлетается к северу, югу, востоку и западу. Внутри дома все стихает; люди из маленьких комнат идут домой; расходятся, зевая, наборщики; умолкает громыхание машин. Газета родилась. За производством следует распределение, и мы тоже последуем за связками и пачками.
Происходит как бы рассеяние. Кипы летят на станции, в последнюю минуту влетают в поезда, потом распадаются на мелкие пачки, которые аккуратно выбрасывают на каждой остановке поезда; затем их делят вновь на пачки поменьше, а те — на пачки еще меньше и, наконец, на отдельные экземпляры газеты. Утренняя заря застает отчаянную беготню и крики мальчишек, которые суют газеты в ящики для писем, в открывающиеся окна, раскладывают их на прилавки газетных киосков. В течение нескольких часов вся страна покрывается белыми пятнами шуршащей бумаги, а заголовки всюду выкрикивают большими буквами последнюю ложь, приготовленную для наступающего дня. И вот по всей стране в поездах, в постелях, за едой мужчины и женщины читают; матери, дочери, сыновья нетерпеливо ждут, когда дочитает отец, миллион людей жадно читает или жадно ждет своей очереди прочесть. Словно какой-то колоссальный рог изобилия покрыл всю страну белой бумажной пеной…
И потом все исчезает удивительно, бесследно, как пена волн на песчаном берегу.
Бессмыслица! Буйный приступ бессмыслицы, беспричинное волнение, пустая трата сил без всякого результата…
Один из этих листков попал мне в руки, когда я с забинтованной ногой сидел в нашей темной подвальной кухне, и разбудил меня от моих личных тревог своими кричащими заголовками. Мать сидела рядом и, засучив рукава на своих жилистых руках, чистила картофель, пока я читал.
Этот листок походил на одну из бесчисленных болезнетворных бацилл, проникших в организм. Я был одним из кровяных телец в большом бесформенном теле Англии, одним из сорока одного миллиона таких же телец, и, несмотря на всю мою озабоченность, возбуждающая сила этих заглавных строчек подхватила меня и увлекла. И по всей стране миллионы читали в тот день так же, как и я, и вместе со мною поднялись и стали в ряды под магическим действием призыва — как тогда выражались? — Ах да: «Дать отпор врагу».