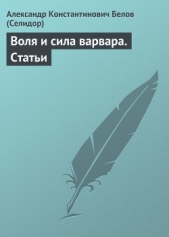Судьба открытия

Судьба открытия читать книгу онлайн
Роман «Судьба открытия» в его первоначальном варианте был издан Детгизом в 1951 году. С тех пор автор коренным образом переработал книгу. Настоящее издание является новым вариантом этого романа.
Элемент вымышленного в книге тесно сплетен с реальными достижениями советской и мировой науки. Синтез углеводов из минерального сырья, химическое преобразование клетчатки в сахарозу и крахмал — открытия, на самом деле пока никем не достигнутые, однако все это прямо вытекает из принципов науки, находится на грани вероятного. А открытие Браконно — Кирхгофа и гидролизное производство — факт существующий. В СССР действует много гидролизных заводов, получающих из клетчатки глюкозу и другие моносахариды.
Автор «Судьбы открытия», писатель Николай Лукин, родился в 1907 году. Он инженер, в прошлом — научный работник. Художественной литературой вплотную занялся после возвращения с фронта в 1945 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, о чем он пишет, — только его умозрительные построения. Пока ему не удалось все это проверить опытом. Однако тут — его большая мысль, выношенная им и за годы яропольского учительства, и в школе прапорщиков, и уже здесь, на фронте.
Когда-то, по совету профессора Сапогова, он пытался усовершенствовать давно известный процесс гидролиза клетчатки: для промышленности такой процесс пока еще невыгоден. Но гидролиз дает возможность получать из древесины лишь глюкозу и смесь подобных ей простейших сахаров, и ничего другого больше.
А теперь Зберовский видит в химическом преобразовании клетчатки гораздо более широкую задачу. Обосновывая мысль, он как бы заглядывает в живое растение — берет для примера, скажем, картофель. Днем в листьях картофеля образуется крахмал. Крахмал тверд и нерастворим. Ночью же зерна крахмала неведомым путем превращаются в сахар и в виде раствора переходят из листьев в клубни. Там сахар снова становится твердым, нерастворимым крахмалом. Во всяком растении, пока оно живет, идут превращения углеводов из одних форм в другие. Так растут деревья: крахмал, образующийся в листьях, на какое-то время принимает форму сахара, перемещается по дереву, а далее — из сахара возникает древесная клетчатка. В живом дереве основная схема превращений идет от крахмала к клетчатке.
Зберовский пишет о такой своей идее: изучив природную схему превращений углеводов, человек мог бы искусственно повернуть эту схему в обратную сторону — а именно, обрабатывая древесину, получать в заводских условиях огромные количества крахмала. Любое дерево для человека может превратиться в хлеб.
Сверкнул дневной свет. В дверь блиндажа всунулась голова в папахе:
— Ваше благородие, записка вам от его высокоблагородия.
«Со взводом ваших саперов, — было сказано в записке, — немедленно восстановите бруствер, разрушенный прямыми попаданиями…»
Григорий Иванович убрал тетрадь, вышел и спустя пять минут уже рассматривал разбитый снарядами участок. Таял смешанный с мокрой землей снег — не было не только бруствера, не было самой траншеи. Траншея начисто засыпана.
Саперы, которых он привел, перебежали через открытое место, залегли на дно воронки.
— Господин прапорщик, поосторожнее! — предостерег его один из солдат, Потапов, в прошлом донецкий шахтер с шахты «Магдалина».
— Погоди! — ответил Зберовский.
Он хотел выяснить, есть ли смысл начать работу с двух сторон одновременно. Пополз, прижавшись к земле, черпая в рукава шинели полужидкую грязь.
Через несколько метров лежа огляделся. Вблизи — отдельные редкие елочки, подальше — темное пятно леса. Обманчиво мирный пейзаж. И тут же Зберовский забыл о пейзаже, бруствере, саперах. Непонятно, что произошло. Перед глазами — стена яркого голубого пламени.
На миг мелькнуло: стена стоит плотная, весомая и меркнет, как остывающая печь. В ушах оглушительный гул колоколов. Потом посыпались искры, мир взвился в урагане. Все провалилось в беспробудный сон.
2
Только в госпитале, много времени спустя, он узнал, что был тяжело ранен и контужен при взрыве снаряда.
Из фронтового госпиталя его перевезли в Москву.
Как сквозь туман, доносились звуки «Марсельезы».
Медленно возвращалось здоровье. Шли месяцы. Зберовскому сделали операцию, другую, третью. Сестры милосердия — чаще других по-матерински заботливая старушка Глафира Сергеевна — кормили его с рук, перестилали постель, позже — выводили гулять в садик при госпитале.
С выздоровлением приходило чувство тревожной радости, к которому нелегко было привыкнуть, — ощущение того, что и люди вокруг, и Россия, и все события в стране уже не прежние, а качественно новые. Революция свершилась. Рухнул опостылевший царский режим.
Летом у Зберовского шли жаркие беседы с его соседями по палате.
И было же о чем побеседовать! Странные настали дни: Николая Романова с семьей везут в ссылку в Тобольск; генерал Корнилов открыл немцам рижский фронт, сам идет с войсками на Петроград; против него — а может, заодно с ним — адвокат Керенский, глава правительства, со своими министрами, но, кажется, без войск; и Советы выступают против Корнилова, формируют Красную гвардию; и всюду ораторы, речи на улицах, митинги. Разве можно все это осмыслить, когда лежишь на госпитальной койке?
В одной газете — так, в другой газете — этак. Везде рассуждают по-разному. Уже не заметно ликования в народе, пышных красных бантов на одежде, как было тотчас после революции. Теперь каждый хочет что-то изменить: один — укрепить Временное правительство, распустить Советы; другой — разогнать это правительство, власть передать Советам; третий — ни Керенского, ни Советов не желает. Большевики требуют: кончай войну!
«Вот это правильно, — говорил Зберовский. — Мир нужен прежде всего!» А его ближайший сосед, подполковник Хозарцев, с ним спорил. Хозарцев утверждал, что зло в большевиках, что надо, пока не поздно, спасать от них науку, культуру, порядок в стране.
У Зберовского отношение к большевикам было двойственное. С одной стороны, их идеи потрясают какой-то прямолинейной, честной логикой. Земля — крестьянам, заводы — рабочим. На самом деле справедливо! Сюда же крупным доводом ложилась его давняя симпатия к Осадчему, — к слову говоря, неизвестно где сейчас находящемуся. Но, с другой стороны, вдруг Хозарцев в конечном счете окажется прав? Что станет с наукой и прогрессом, если власть возьмет неграмотный народ? Страшна темная стихия разрушения. Действительно, не захлестнет ли все волна слепого человеческого гнева?…
В воздухе кружился, падал желтый тополевый листок.
Лето было на исходе. Зберовский в больничном халате сидел на садовой скамье. Рядом с ним — обвернутый бинтом костыль и пачка свежих газет.
По аллее к нему подошла Глафира Сергеевна. На ней очки, косынка с красным крестом. Морщины на ее лице сейчас расплылись в доброй-предоброй улыбке:
— Отдыхаете, Григорий Иванович? Ну вот, все прекрасно будет, лучшего не надо…
Она подсела рядом, отодвинула газеты. Сказала:
— Видите ли, я вас давно об одной вещи спросить собираюсь.
Оказывается, у нее есть знакомая — некая молодая дама. Они как-то встретились, и Глафира Сергеевна принялась делиться с ней своими повседневными делами и заботами; между прочим, назвала фамилию Зберовского. А дама даже взволновалась: не Григорием ли Ивановичем его зовут? Поручила непременно выяснить, тот ли он самый Григорий Иванович, которого она знала когда-то.
— Все может статься, — не без лукавства проговорила Глафира Сергеевна. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком…
Зберовский держал в руках костыль и вырисовывал им на земле орнамент. Спросил, не подняв взгляда:
— Как зовут-то вашу даму?
— Озерицкая Зоя Степановна.
— Озерицкая? — повторил Григорий Иванович.
Он посидел молча, дорисовал костылем завитушку узора. Потом повернулся к Глафире Сергеевне — будто совершенно равнодушный, не встревоженный, не подавленный ничем. Спокойно ответил:
— Да, было. Встречались когда-то с Зоей Степановной.
На полное выздоровление Григорий Иванович рассчитывать не мог: врач объяснил, что после таких ран он станет прихрамывать, вероятно, долгие годы или, может быть, всю жизнь. С фронтом для него теперь покончено — как говорят, он уже отвоевался. Хромота же в будущем Зберовского не особенно печалила. В лаборатории она ему не помешает.
Сегодня — и уже не первый раз — в газетах он прочел имя своего бывшего учителя, профессора Сапогова. После революции Георгий Евгеньевич Сапогов стал видным деятелем министерства торговли и промышленности.
Едва Глафира Сергеевна ушла, Зберовский схватился за газеты. Опять увидел имя Сапогова. Пытался вникнуть в то, что там написано, но думал о Зое. И сердце снова, как прежде, сжалось в обиде и тоске.
Замужем за адвокатом Озерицким… Ну что же, бог ей судья. Насильно мил не будешь!
Однако сердце не мирилось, и все в его душе протестовало.