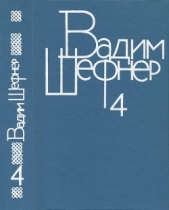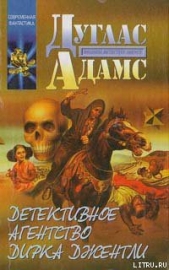Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде

Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спиной к Сытному рынку, лицом к парку высится массивное здание с башней, с огромными окнами-аркадами. Пожилые ленинградцы по старой памяти называют его (в отличие от Биржи Томона) Биржей труда. А молодые и люди среднего возраста и знать не знают, каким вместилищем надежд человеческих было это здание в двадцатые годы. Возле этой Биржи всегда толпился народ; и безработные ленинградцы, и приезжие сезонники, обутые в лапти, с ночи занимали очередь на запись. Летними ночами и панель перед аркадами, и участок парка, что через улицу, были усеяны дремлющими и спящими на скамьях, на траве, а то и просто на камне людьми: всем хотелось устроиться на работу, и не по личному выбору, а на какую угодно. Но записаться -- еще не значило устроиться. Безработица была большая, глубокая. Задевала она многих, сказалась в тогдашних поговорках ("Ты куда? -- На Биржу труда") и в песнях, например во всеми распеваемых тогда "Кирпичиках":
И, как водится, безработица
По заводу ударила вдруг.
Сенька вылетел, а за ним и я,
И еще двести семьдесят душ...
Сейчас на каждом углу и возле ворот каждого завода висят объявления: "Требуются... Требуются... Требуются..." -- а тогда в газетах печатались язвительные фельетоны и строгие статьи, осуждающие некоторых директоров за прием рабочих "от ворот", то есть помимо Биржи труда. Постепенно к исходу двадцатых годов значение этого учреждения все уменьшалось, но и в 1931 году оно еще функционировало, -- помню это по личному опыту: в том году я был принят в ФЗУ имени Менделеева через Биржу. А потом Биржа труда как-то незаметно, тихо сошла на нет, закрылась. Незаметно произошло чудо: не стало безработицы.
34. ДВОР И ПЕСНИ
В нынешние дни лестница стала продолжением улицы, а во времена, которые я здесь описываю, она была продолжением квартиры. Посторонним околачиваться там не полагалось, шуметь никому не разрешалось; в двенадцать часов вечера дворник запирал парадный подъезд, так же как и ворота во двор, на ключ -- до утра. Должность швейцара была уже упразднена, но на парадной нашей, в комнатушке, расположенной под нижним лестничным пролетом, доживал свой век бывший швейцар дядя Митя -- строгий молчаливый старик с голубыми глазами навыкат, с большими белесыми, похожими на мочалки, бровями. По старой привычке он присматривал за порядком. Мы, мальчишки, норовили быстро-быстро прошмыгнуть мимо его каморки, а чаще, идя на улицу, пользовались черной лестницей, тем более что это казалось и интереснее: ведь она вела во двор.
Дворы в те времена имели в жизни ленинградцев, а в особенности в жизни детей и подростков, куда большее значение, нежели теперь. Каждый двор принадлежал как бы только тем, кто живет в данном доме или флигеле; ко всем пришельцам относились настороженно, а дворник имел право прогнать со двора любого чужака, если тот покажется ему подозрительным. Нынче в новых районах вовсе нет дворов в прежнем смысле этого слова, да и в старых районах многие дворовые участки соединены и часто между домами можно пройти весь квартал.
Дворы утратили свою автономность, их поглотила улица. Она теперь начинается сразу же за дверью квартиры, а еще недавно между домом (семьей) и улицей пролегала как бы некая буферная зона -- двор.
Во дворе существовали свои законы, не похожие ни на семейные, ни на школьные, ни на уличные; как ни странно, скорее всего они походили на детдомовские, и, быть может, именно потому уже через день я почувствовал себя в своем дворе как дома. Здесь тоже чтили силу, но уважали и справедливость, и старшие, как правило, младших не обижали. Когда у меня (изредка) случались стычки с ребятами моего возраста, брат мой не оказывал мне никакого покровительства -- дерись сам за себя, на равных, а не надейся на подмогу. Но дрались не часто, потому что и без того хватало развлечений.
Передний двор наш представлял прямоугольник, мощенный мелким булыжником и ограниченный по длинной стороне стенами двух пятиэтажных домов, а по короткой -- двумя высокими серыми брандмауэрами. Часть его площади занимали поленницы дров, но для беготни, игры в лапту и для киканья ("кикать" -- гонять ногами тряпичный мяч) места вполне хватало. Двор имел две подворотни: одна вела на улицу, другая -- на задний двор. Задний двор, зажатый между первым и вторым флигелем, был куда меньше и невзрачнее переднего; здесь, кроме всего прочего, находились домовая прачечная и помойка -- бетонное сооружение с двумя горизонтальными дверцами на блоках, -- в ней было интересно рыться, если поблизости не торчал кто-нибудь из взрослых; они всегда гнали ребят от помойки. Девочки на задний двор почти не заглядывали, зато мальчики обретались там частенько: притягательную силу имела не только выгребная яма, а и подвалы второго флигеля; большинство из них пустовало, и мы там играли в казаков-разбойников. В подвалах таилась загадочная полутьма -- маленькие окошечки, вровень с землей, почти не давали света; пахло сыростью, местами под ногами хлюпала вода; на полу валялись черепки от цветочных горшков, старые консервные банки с рваными краями, какие-то железные, насквозь проржавевшие детали. Однажды в дальнем конце подвала мы нашли старинный велосипед -- с огромным передним колесом и малюсеньким задним; ржавчина изрядно пообглодала его, и все же он оказался таким тяжеленным, что вытащить его наружу мы не смогли. В одном, сравнительно сухом, отсеке подвала ребята соорудили разбойничью пещеру -- сложили там из кирпичей скамейки и подобие стола, а бетонные стены размалевали углем; изображены были гробы, черепа, кости, наганы и игральные карты. Здесь валялись старые журналы, натасканные из дому, и мы жгли лист за листом, скручивая их в жгуты. В пещере рассказывались страшные истории; как и в детдомовских россказнях, в них часто фигурировали привидения, воскресшие покойники, а также всевозможные жулики и бандиты, -- только здесь и у потусторонних и у земных персонажей была твердая питерская прописка.
Из рассказчиков наибольшим вниманием и почетом пользовался мальчик лет тринадцати по прозвищу Огурец; его старший брат имел уже две отсидки за хулиганство и был лично-персонально знаком с самим Мотей Беспалым, царем Скопского дворца. Скопской дворец находился за Большой Невой, в Коломне; то было большое бесхозное здание, никакому начальству не подведомственное, милиция даже днем обходила "дворец" сторонкой, и жили в нем, по словам Огурца, "громильцы, фармазонщики и пронститутки", а командовал ими знаменитый Мотя Беспалый. Храбростью этот Мотя отличался отчаянной: однажды, спасаясь от преследования, он прыгнул будто бы с крыши шестиэтажного дома на крышу соседнего двухэтажного, пробил своим телом кровельные листы и, отделавшись легкими царапинами, чин чинарем ушел через чердак. Советской власти Беспалый вреда не причинял, грабил он только зажиревших буржуев-нэпманов; время от времени он занимался даже филантропией, сочетая ее с наглядной антирелигиозной пропагандой: так, ради бедной верующей старушки, оба сына которой погибли в германскую, он специально очистил ювелирный магазин на Садовой, нанизал золотые изделия на веревочку и кинул старушке в форточку эту драгоценную снизку, привязав к ней еще и бумажку в десять червонцев, на полях которой начертал собственноручно: "Где бог не может -- там Мотя поможет!"