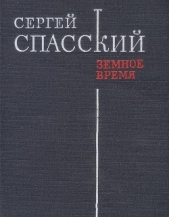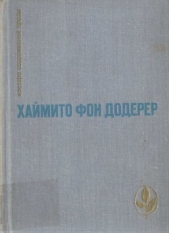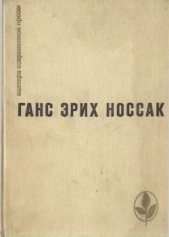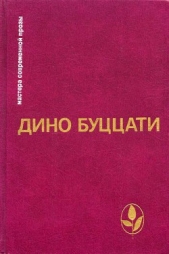Щенки Земли

Щенки Земли читать книгу онлайн
Томас Диш — один из крупнейших представителей фантастов «новой волны», собрат по перу таких блестящих писателей, как Сэмюэль Дилэйни и Джон Слэйдек. Настоящее издание представляет два самых известных романа Диша «Щенки Земли» и «Концлагерь».
[litru_image]doc2fb_image_03000001.png[/litru_image]
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но главным элементом метаморфозы стали усы, которые отросли теперь вполне достаточно, чтобы сделать неясными очертания верхней губы. Концы усов, которые сперва обладали тенденцией свисать, стали теперь, благодаря его нервозной привычке накручивать их на пальцы, изгибаться вверх, подобно турецкой сабле (по-турецки, «пала» — поэтому такой стиль усов называется «пала-бьяик»).
На лице, которое он видит в зеркале, усы напоминают ему стиль барокко. Остается нерешенной проблема «выражения»: быстрота смены, постоянство, игра ума, характерный «тон» и сотни сотен возможных градаций этого тона — привычки глаз к проявлению иронии и беспристрастия, напряжение или расслабленность губ. Тем не менее, глядя на это лицо в зеркале или предоставляя видеть его кому-то другому, едва ли необходимо заботиться, чтобы на нем было выражение. Что, в конце концов, выражать?
Стушевавшиеся грани, потерянные дни, долгие часы без сна в постели; книги, разбросанные по комнате словно растерзанные трупы мелких животных, на которых он набрасывался, когда обуревала злоба; бесконечные чайные чашки, безвкусные сигареты. Вино, по крайней мере, дает то, что предположительно и должно давать, — снимает остроту муки. Не то чтобы он чувствует в эти дни муку с какой-то особой остротой. Но без вина, возможно, чувствовал бы.
Он сваливает пустые бутылки, которые не принимают обратно, в ванну; это его опыт (за неимением чего-то другого) пребывания в лапах старушки дискриминации — «вынужденный такт», которому он уделил так много внимания в своей книге.
Занавески всегда раздвинуты. Свет остается включенным, даже когда он спит, даже когда уходит. Три шестидесятиваттные лампочки в косо подвешенной люстре.
С улицы вторгаются голоса. По утрам — призывы торговцев и пронзительный металлический визг детей. По вечерам — радио из подвальной квартиры и крики пьяной ссоры. Россыпи слов, как светящиеся знаки автострады во время ночной езды на высокой скорости.
Если он начинает сразу после полудня, то двух бутылок не хватает, однако после трех возникает ощущение недомогания.
И хотя часы ползут подобно ковыляющему по полу недобитому насекомому, дни несутся стремительным потоком. Солнечный свет скользит по Босфору так быстро, что он едва успевает выбраться из постели, чтобы успеть взглянуть на него.
Однажды утром, когда он проснулся, из грязной цветочной вазы на туалетном столике торчал привязанный к палочке воздушный шарик. Кричаще яркий Микки Маус красовался на пурпурно-красной резине. Он оставил его раскачиваться в вазе и день за днем наблюдал, как тот съеживается, как черты лица мышонка делаются мелкими, темными и морщинистыми.
В следующий раз на столике оказались корешки билетов, двух билетов паромной переправы Кабатас — Ускюдар.
До этого момента он уговаривал себя, что вопрос лишь в том, чтобы выдержать до весны. Он подготовился к затворничеству, веря, что так попасться невозможно. Теперь он понял, что действительно должен отправляться туда и бороться.
Хотя была середина февраля, погода потворствовала его запоздалому решению рядом ярких безоблачных дней и настоящим, не по сезону, теплом, которое даже обмануло несколько рано распустившихся, не подозревавших подвоха, деревьев. Он снова и снова блуждал по Топкани, уделяя почтительное, не очень пристальное, но заинтересованное внимание изделиям цвета морской волны, золоченым табакеркам, вышитым жемчугом подушкам, портретным миниатюрам султанов, слепкам следов пророка, изникской керамике, массе всякой всячины. Это была — все, что разворачивалось перед ним, груды и штабеля всего этого, — красота. Словно торговец, привязывающий ценники к разложенному товару, он закреплял любимые слова, сначала временно, за этими безделушками, затем отступал на шаг или два, чтобы поглядеть, насколько хорошо они «подходят». Это красота? А то?
Как ни странно, ничто красотой не оказывалось. Лишенные ценников безделушки просто валялись на полках за толстыми стеклами, такие же безответные, как грязная, порыжелая от пыли обстановка его квартиры.
Он попытался осматривать мечети: Султана Ахмета, Байязета, Шах-заде, Йени Камий, Лалели Камий. Их древняя магия, Витрувианово триединство «удобства, крепости и наслаждения» никогда прежде его так сильно не подводили. Даже сама масштабность, перед которой раскрывается от изумления рот и возникает благоговение деревенщины перед толстыми колоннами и высокими куполами, — даже это оказалось ему недоступным. Куда бы он ни направил стопы в этом городе, ему было не выбраться из своей комнаты.
Тогда он отправился на земляные стены, где несколько месяцев назад освежал память под покровом прошлого. Он стоял на том же месте, что и в тот раз, именно там, где Мехмед Завоеватель сделал пролом в стене. Расположенные кучками по пять гранитные пушечные ядра украшала молодая трава; ядра напомнили ему о красном воздушном шарике.
В качестве последнего средства он снова побывал в Эйюпе. Ложная весна добралась до своего худосочного апогея, и февральское солнце ослепляло блеском вводящей в заблуждение яркости тысяч граней белого камня, покрывавшего крутой склон холма. Овцы группками по три или четыре пощипывали траву между камней. Похожие на головы в тюрбанах столбики мрамора возвышались над землей во всех направлениях, но многие покосились (это было легко определить по кипарисам) или беспорядочно валялись один на другом. Ни стен, ни кровли, только едва заметная тропа через весь этот беспорядок — предельная архитектурная абстракция. У него создалось впечатление, что все свалено здесь в кучу на века, именно для того, чтобы подтвердить правильность главного тезиса его книги.
И это на него подействовало. Подействовало великолепно. Его разум ожил, загорелись глаза. Идеи и образы соединились.
Косые солнечные лучи позднего послеполудня ласкали беспорядочно сваленный мрамор точно так же, как холодной, заботливой рукой красавица последний раз прикасается к тщательно продуманной и, наконец, воплощенной прическе. Красота? Она была здесь. Она была здесь в избытке!
На следующий день он вернулся с фотоаппаратом, который выкупил из ремонтной мастерской, где он провалялся два месяца. Для полной гарантии он попросил мастера зарядить его. Он выбирал композицию каждого снимка с математической пунктуальностью, суетясь на широком пространстве, припадая к земле или забираясь на гробницы, чтобы найти наилучший угол. Перед каждым спуском затвора он проверял показания экспонометра, осмотрительно избегал слишком живописных решений и простых эффектов. При таком множестве усилий за два часа ему удалось сделать только двадцать экспозиций.
Он зашел в небольшое кафе на вершине холма. Сюда, как было почтительно отмечено в его «Хачетте», летними вечерами имел обыкновение заглядывать великий Пьер Лоти, чтобы выпить чашку чая и полюбоваться испещренными скульптурами холмами, дальше которых, за колоннадой кипарисов, открывался Золотой Рог. Кафе увековечило память об этой исчезнувшей славе художественными и моментальными снимками Лоти — со свирепо ощетинившимися усами, в красной феске, он сердито глядит на случайных посетителей с каждой стены. Во время первой мировой войны Лоти остался в Стамбуле, взяв сторону своего друга, турецкого султана, против родной Франции.
Он заказал чашку чая. Заказ приняла официантка в одеянии девушки из гарема. Не считая этой официантки, кафе было в полном его распоряжении. Он сел на любимый табурет Пьера Лоти. Ощущение оказалось великолепным. Он почувствовал себя совсем как дома.
Он раскрыл блокнот и начал писать.
Словно у инвалида, впервые вышедшего на прогулку после долгого выздоровления, его возрождающаяся энергия вызывала не только вполне предсказуемое и желанное возбуждение, но еще и явное интеллектуальное головокружение, будто он не просто встал на ноги, а забрался на какую-то действительно опасную высоту. Головокружение стало едва ли не болезненным, когда он попытался набросать черновик ответа на рецензию Робертсона и был вынужден припомнить некоторые выдержки из своей книги. Часто они не столько поражали его, сколько казались непостижимыми. Некоторые главы могли быть написаны идеограммами или футуристически, настолько очевидным был для него их смысл. Но подчас, как бы услыхав что-то вроде подсказки, настолько неуместной с точки зрения какого угодно конкретного аспекта, что эту подсказку следовало бы взять в скобки, он очень быстро приходил к самому непредвиденному — и нежелательному — заключению. Или, скорее, каждая подобная подсказка асимптотически приводила к простому выводу: эта его книга, или любая другая, которую он мог бы задумать, — никчемна, и никчемна не потому, что неверен его тезис, а как раз по той причине, что он наверняка правильный.