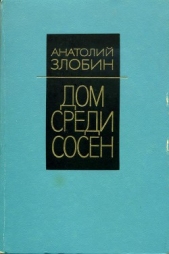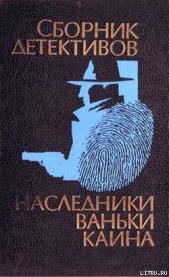Пленники астероида
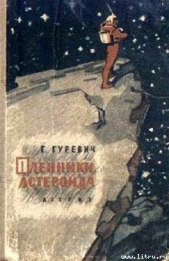
Пленники астероида читать книгу онлайн
Классическая советская научная фантастика.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Переползали.
Сползали.
Шли. Шли. Шли.
Камни гладкие. Камни морщинистые. Камни плоские и ребристые. Камни мелкие и крупные. Камни твердые и перекатывающиеся.
Шаги. Шаги. Шаги.
Даже борьба за спасение Олимпа, даже гибель Дитмара растворились в этой однообразной ходьбе.
Хозе — ценитель прошлого — сдал первым. Не от слабости тела или духа. Он пострадал больше других при аварии. Обожженное лицо воспалилось, начался жар.
А главное — в скафандр к нему просачивались из атмосферы метан в углекислота, а кислород уходил.
Хозе стеснялся напоминать нам почаще подновлять воздух.
Мы вели его под руки по камням.
Гладким. Морщинистым. Плоским. Ребристым. Мелким. Крупным. Треснувшим. Перекатывающимся.
По рыхлому пеплу.
По лаве.
По осыпям.
Потом мы тащили его на спине.
По пеплу. Лаве. Осыпям. Камням. Гладким. Морщинистым Ребристым.
Болела спина. Подгибались колени. Горели подошвы.
И ком стоял а горле, рот не успевал наполнить легкие. Я считал шаги: один, два, три. Через пятьсот шагов Гена сменил меня, взваливал на спину обессилевшего товарища. Но все-таки мы шли. Мы надеялись дойти. Страшнее было сидеть на месте и ждать помощи: успеют — не успеют? Пепел.
Камни.
Шаги.
На каком-то привале, когда подошла Генина очередь тащить, а я лежал ничком, набирая силы, до меня донесся разговор, не для моих ушей предназначенный. Мои товарищи забыли, что разговаривают по радио и я тоже слышу каждое слово.
— Очень тяжело? — спросил Хозе.
Гена ответил:
— Всю жизнь я мечтал оседлать Пегаса, не думал, что Пегас оседлает меня.
Ты бы слышала, каким безрадостным тоном была сказана эта шутка!
Хозе сказал еще грустнее:
— Не будь меня, вы с Яром дошли бы. Я хочу открыть клапан. Пусть один погибнет, но не трое.
— Попробуй только!
— Надо подумать о Музе тоже, — настаивал Хозе. — Мы должны спасти для нее мужа. Она его ждет, не нас с тобой.
— Ты любишь ее? — спросил Гена.
— Люблю, ты же знаешь. И ты тоже. Так вот, давай проявим любовь, спасем для нее Яра.
Я никогда тебе не рассказывал, Муза, про эти слова, я считал, что это не моя тайна. А теперь жалею. Жалею, что ты не знала, каких друзей встретила на Поэзии.
А тогда, услышав, я закричал:
— Не смейте, друзья, не смей, Хозе, я не приму этой жертвы. Я сам отдам вам воздух. Потому что я виновник! Ведь вы же меня спасали и теперь из-за меня гибнете.
Но Гена сказал грубо:
— А ты куда лезешь, Яр? Я еще понимаю Хозе, у него голова набита старыми романами. Начитался, как люди бросали жребий, кому жить, кому помирать. У нас на переднем крае так не поступают, у нас товарища не бросают. Все вместе вытаскивают, пока не вытащат. А не могут вытащить, никуда не уходят. Ну-ка, берись, Яр, понесем вдвоем. И чтоб глупостей я не слыхал больше!
И мы тащили Хозе.
По пеплу. По камням. Шаг. Шаг. Шаг.
Ныло. Горело. Резало. Перед мутными глазами плыла зеленоватая мгла.
Не помню, когда и как из мглы проявился спасательный самолет и лица… Лицо Киры, перекошенное болью, и твое, жалостливое и чуть брезгливое.
Не на меня ты смотрела — на воспаленные раны Хозе, на заплывшие глаза и обгорелый гноящийся нос.
А потом мы остались вдвоем на станции; ты и я, я и ты.
Хозе улетел на Луну — выращивать новое лицо.
Помнишь, как он прятался от тебя, не хотел, чтобы ты видела его без век и без чудесного орлиного носа?
И Гена покинул нас, отправился сопровождать Хозе.
И Кира улетела — к сыновьям на Марс. Я удивлялся тогда, как она переносит горе — без единой слезинки, со сжатыми губами. Такая она была открытая всегда, говорливая, а тут замкнулась, отталкивала сочувствие.
Я было пытался сказать в утешение: дескать. Марс это почти не космос, там безопасно и тепло, как на Колыме, спокойно и культурно. А она так взглянула, прищурясь, словно хлестнула взглядом, и отрезала:
— Мы, Дитмары, не боимся космоса. Когда сыновья подрастут, мы вернемся на Поэзию… или на другую планету посуровее. И дочерей привезу… с мужьями. Мы сдаваться не намерены.
Уехала. А мы остались вдвоем; ты и я.
И делать нечего. Олимп законсервирован, стройка прекращена. У меня хоть занятие: сопровождаю комиссии, пишу объяснительные записки, предлагаю измерительно-предупредительные системы на будущее. А тебе, художнику по горам, что делать? Что ты могла разрабатывать? Рисовать детали Олимпа просто так, для времяпрепровождения? Конечно, скучно.
Вот когда я услышал: “Хочу на Колыму!”
Ты говорила: “Хочу поле… и чтобы пахло медом и полынью… и пусть будут золотые брызги лютиков, и ласточки, купающиеся в небе, и кудрявый лес на горизонте, и запах прелой хвои в том лесу, а под листочками в траве земляника, перезрелая, уже не красная, а бордовая, душистая, тающая во рту”.
А что я мог тебе предложить? Банку земляничного варенья? Кинокартину с аромат-записью? Суррогат остается суррогатом. Цветы на экране благоухают, но их нельзя сорвать, зарыться лицом в букет. Перед глазами вьется лесная тропинка, но нет прохлады, нельзя сойти в сторону, лечь на мох, остудить разгоряченное лицо.
Ты говорила еще: “Хочу домой в Магадан. Хочу говор толпы, толкучку аэроранцев, подобную пляске поденок, пар над подогретыми тротуарами, шелест платьев в фойе. Хочу обнять маму и сестру, потетешкать ее младенца”.
А что я мог предложить? Закажем радиоразговор?
До Земли девяносто световых минут, три часа от вопроса до ответа. Говори на весь космос “агусеньки”, через три часа услышишь: “те-тя”.
— Домой хочу.
— Ну, улетай, — говорил я. — Поскучаю один полгода.
— Нет, я с тобой хочу.
— Не могу же я оставить станцию.
— Найдут замену.
— Но я так стремился на Поэзию..
Эти разговоры возобновлялись ежедневно. Иногда со вчерашнего возражения, иногда даже с невысказанного, еще мною не сформулированного.
Мы стремились на Поэзию? Да, стремились. Но теперь познакомились с ней вплотную и убедились, что передний край не так хорош, приукрашен молвой. Голые скалы и рыжие смерчи приедаются. В любой земной долинке больше разнообразия, чем на всей планете Поэзии. Монотонные горы, монотонные дни и месяцы. Нельзя человеку вариться в собственном соку, он создан для общества. Только в гуще жизни люди растут, только на Земле подлинная культура и искусство. Живя на краю Ойкумены, скисаешь, увядаешь, выдыхаешься.
Геройство? Геройства на Земле меньше. Разве не герои медики, охраняющие нас от новых болезней, тюремщики невидимой заразы, запертой в пробирках? Разве не героична бессонная служба охраны от ураганов, наводнений, извержений, землетрясений? Разве не героичен труд ученых, которые в тиши лабораторий продвигаются в неведомое, открывают внутри миллимикрона вещи более удивительные, чем мы — за миллиард километров от дома, на планете, в общем очень похожей на Венеру?
Наука? Но для науки мы чернорабочие, мы добыватели сведений, в лучшем случае. Из космоса мы доставляем научное сырье, а перерабатывается оно на Земле лучшими умами, вооруженными совершеннейшими машинами. Открытия совершают на Земле, изобретения делают на Земле, потому что там центр мысли, мозг человечества. Ведь и Олимп не строится, законсервирован, пока на Земле не решат, как не повторить нашу ошибку, как предупредить провал горы. Даже для Дитмара, чтобы завершить его дело, надо ехать на Землю.
И, наконец, последний аргумент; люблю я жену или нет? Если люблю, я должен уступить, последовать за тобой на Землю. Ты же следовала за мной в космос, теперь моя очередь. Ради настоящей любви люди в воду бросались, сражались насмерть с дикими зверями и дикими фашистами. От меня требуется совсем немного: поступиться самолюбием и уехать. Не пострадает никто. Тысячи юнцов с охотой займут освободившееся место.
Люблю я по-настоящему?
И тут подошел годичный срок. Я должен был явиться на спутник, сказать коменданту, хочу я остаться еще на год или вызывать замену. Никто меня не попрекнул бы, скажи я: “Мы с Музой возвращаемся на Землю”. И мы условились с тобой, что я так и скажу коменданту.