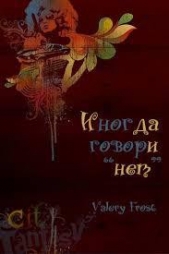Очаг на башне

Очаг на башне читать книгу онлайн
Можно ли написать в наше время фантастический роман о любви? Можно — если за дело берется Вячеслав Рыбаков. «Очаг на башне» — начало восьмидесятых, апофеоз той эпохи, которую называют «безвременьем», «застоем», но зачастую вспоминают с нескрываемой ностальгией.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он послушно поднялся.
— Ася, — сказал он.
— Все-все-все, — ответила она. И, чтобы покончить, добавила: — Ты мне стал физически неприятен.
Он будто даже обрадовался.
— Это пройдет! Оттого тебе и кажется остальное. Все будет хорошо. Ведь было хорошо — правда?
Она нехотя шевельнула плечом.
— Ты глупышка, — сказал он нежно. — Ты даже не понимаешь, что так легко поверила тому… кого встретила… лишь оттого, что нам было хорошо. Ты привыкла верить… Все вернется, Ася. Я буду ждать тебя, ты очнешься. Любимая, родная моя, бесценная… — Он задохнулся. — Настоящее не уходит!
Слушать этот вздор было жалко и стыдно. И ведь я когда-то думала, что люблю его… Ее передернуло. Та жизнь казалась выдуманной. От нее ничего не осталось. Хоть бы Татка пришла. Телефон молчал.
— Настоящее не кончается, Ася! Настоящее…
Что еще он хотел поведать о настоящем, осталось его личным делом. Дверь с грохотом распахнулась, и деканат заполнила гомонящая молодая ватага. Ася облегченно вздохнула. Внимать Симагину было совершенно невыносимо. Будто любовь ей предлагал гниющий труп. Теперь Симагин смотрел издалека, его будто свежим ветром смело в угол, и Ася сразу стала энергичной, раскованной, говорливой. Она испытывала странную легкость, работа спорилась в ее руках, мелькали печати, бланки… Вернулась Татка и стала описывать презабавный инцидент в буфете. Не очень вслушиваясь, Ася от души смеялась. Это был ее мир. Живой, невымудренный. И только телефон молчал.
Симагин ушел минут через пятнадцать.
Она посмотрела в окно, как он бредет по набережной, шатаясь от яростных ударов ветра. Плащ бился на нем, точно хотел улететь. Много курю, подумала Ася, сминая в пальцах сигарету. Может, от этого заживает медленнее. А нужно быть готовой. Может, он уже скоро скажет: хочу. Симагин стоял на набережной, обвалившись на парапет, и все оборачивался — будто ждал, что, как встарь, Ася выскочит из дверей в наспех наброшенном пальто и бросится бегом поперек мостовой. Сияющая. Счастливая. Нет уж, увольте. Хватит унижаться.
Валерий позвонил в начале второго. Он работал всю ночь, сделал двенадцать очень качественных страниц и, заснув лишь под утро, попросту проспал. Они договорились. Какое счастье, он все-таки позвонил.
Кажется, их поздравляли. Кажется, Вайсброд расспрашивал. Кажется, приезжали из центра с новыми записями — их надо было принять. Наверное, он сделал и это — кроме него, просто некому было это сделать.
Он ушел с работы вместе со всеми. Но отдельно. Вышел в ветер. Горбясь под неимоверной тяжестью неба, прошел мимо закрытого цветочного киоска, мимо автобусной остановки.
Он не помнил, где плутал. Забрел, кажется, в маленький кинотеатр. Ему стали что-то показывать. Он ушел с середины.
Он пришел домой в половине десятого. Ноги омертвели от скитаний. Кружилась голова. Он не ел с Москвы. Вот теперь — казалось, триста лет прошло после того, как он утром приехал сюда с вокзала — он понял, что произошло. И одновременно понял, сидя на стоящем в коридоре нераспакованном чемодане, что в глубине души весь день носил сумасшедшую надежду — придя домой, встретить здесь ее. Потому и не шел допоздна — давал ей время. Было пусто. Было много места — три маленькие комнаты, узкий коридор, кухонька, и повсюду одинаково — пусто. Все дышало ею, мерцало отблесками. Но отблески угасали. Промозглая ночь сочилась в окна. Ему казалось неоспоримым, что лишь тогда он начал жить, когда на остановке увидел прекрасную девушку с ослепительно черным костром волос. И, значит, сегодня — кончил жить. Ему было страшно. Ведь впереди, наверное, еще много лет. Голова разламывалась, он принял баралгин, напился воды из крана. Подошел к окну. Город спал. Громоздились темные, мертвые контуры. Ледяная луна стремительно летела над ними, гибла в тучах, взрывая их края серебряным блеском, и вновь вырывалась в бездонную черноту, падала в глаза жутким бельмом. Ее пронзительный свет был непереносим. Симагин задыхался. Он пошел обратно. Гулко, непривычно звучали на ночной лестнице выходящие шаги. Завывал ветер. В почтовом ящике белело, Симагин машинально вынул — письмо. «Здравствуйте, наши дорогие! Что-то давно от вас нет ничего. Сеновал мы приготовили, погода стоит отменная, и верандочка ваша ждет не дождется. Тошенька, поди, вырос за лето совсем большой, мы купили ему велосипедик, пусть катается, тут просторы. Как Асино здоровье? Ты, Андрюша, ее сейчас береги. Не знаешь, какие женщины в такой момент капризные, так то не со зла». На улице черный свирепый ветер ударил Симагина по лицу, закрутил плащ. Симагин разжал пальцы — маленький светлый призрак мелькнул в темноте и пропал, проглоченный водоворотом. Сгибаясь, Симагин побрел. Он не знал, куда идет. Он не знал даже, что идет. Но шел безошибочно, и в сером свечении рассвета пришел. Долго стоял под неживыми окнами. Потом вспомнил — там, внутри, она тоже одна. Может быть. Если не с тем. Взбежал на седьмой этаж. Едва дыша, опрокинулся на дверь, и несколько минут стоял, закрыв глаза, унимая боль в сердце, затылком чувствуя среди пухлого дерматина льдистую твердость кругляша с цифрой «47», который он сам прикручивал в сентябре, потому что прежний совсем облупился. Ася была за дверью, он ощущал ее, слышал ее сон, видел ее дыхание, струйчато дрожащее в зазорах, в замочной скважине… Это напоминало марево над полуденным лугом. Его рука потянулась к звонку и отлетела. Не надо ее будить. Но я же здесь. Она не чувствует? Она уже не чувствует. В окна тек скупой илистый свет. Стекла стонали под напором ветра, по лестнице крутился сквозняк. Симагин прижался губами к звонку. В квартире квакнуло. Симагин отпрянул, зажав рот обеими руками. Потом стал медленно пятиться. Оступился и едва не упал. Ася не проснулась. Наверное, она устала. Наверное, она очень много курит. Наверное, ей еще нездоровится. Он бросился вниз, словно за ним гнались, потерял равновесие и упал-таки, разбив локоть и колено, ссадив щеку о заплеванный пол. Сильно хромая, выбрался на улицу. Шипя и упруго подскакивая на выбоинах в асфальте, проламывая густые, песчаные потоки ветра, мчались утренние машины. Симагин перешел улицу и опять долго смотрел на окна, машинально размазывая кровь и грязь по лицу. Потом пошел на работу.
Но когда долгожданное произошло наконец, Ася испытала странное, горькое разочарование. Нет, она ни о чем не жалела, ей не о чем было жалеть. Она любила Валерия смертельно, и, конечно, куда Симагину было до него. Но все творилось где-то вдали. Она вбирала навсегда и целиком, до легчайшего вздоха, до мельчайших бисеринок пота. А вложить ничего не могла. Старалась изо всех сил, ласкала, как только могла. Но ничего не могла. Была марионеткой. Самой можно было ничего не хотеть, только слушаться. Казалось, на ее месте сгодилась бы любая. Не пылкой нимфой, радостно и безоглядно упавшей в полдень на зеленую траву чувствовала она себя, нет. Просто искалеченной абортом женщиной, на грани отчаяния, с широко разведенными ногами. Наверное, так и должно. Сказки ушли, пришла жизнь. Но когда все кончилось, они с Валерием не стали ближе, остались порознь, каждый на своей стороне постели. Она долго лежала, глядя в прокуренную тьму чужой квартиры. И не могла уснуть. И не могла понять, почему ее преданность, ее восторг скатывались с него, как капельки воды с промасленной бумаги. Она едва не плакала, но лежала тихо, привычно боясь разбудить спящего рядом мужчину. Он был разочарован. Она не смогла! Наверное, он не может забыть той, предавшей. Он часто рассказывал. Инна. Ася ненавидела ее. Надо бороться. Он же целовал меня, целовал! Ему нравилось! Пусть хоть немножко…
Что за удовольствие, что за блаженство он испытал, произнеся наконец вслух фразу, которую столько времени мечтал произнести вслух кому-нибудь, кто от него зависит, с превосходственным идиотизмом и жирной незаинтересованностью, с какими она была когда-то обрушена на него самого, о, что за блаженство — платить миру его же монетой, не сдерживаясь, не щадя и не размышляя. До новых встреч, сказал он ей, снисходительно чмокнул в горящую щеку, мимо подставленных запекшихся, робко приоткрытых губ, и захлопнул за нею дверь, и тихонько засмеялся, когда эта невыносимая женщина, все утро глядевшая на него огромными, чего-то требующими глазами, наконец ушла. Право, я дурак хуже Симагина, думал он, тихонько смеясь, тот хоть просто дурак, а я все понимаю — и тем не менее продолжаю искать чего-то этакого… Ну и богиня! Ну и муза, боже правый! Он никак не мог понять, что же, в конце концов, померещилось ему в ней, что приворожило? Кем она сумела притвориться, чтобы он, собаку съевший на этих вывертах, заметил ее и захотел, как она добилась этого, хитрая тварь? Требовательный взгляд, требовательные руки, требовательные, слащавые бесконечные поцелуи, как если бы он, Вербицкий, благодаря тому, что она разделась и легла с ним, стал ее маленьким сыном, которого она имеет право зацеловать до того, чтобы велеть потом: так делай, так не делай… Сколько суматохи, вожделений, надежд — и денег, между прочим, на этот идиотский прибор — и все ради того, чтобы наставить рога обормоту Симагину, которому разве что отпетый лентяй или евнух не наставил бы рогов, да повесить себе на шею очередную женщину. Слова те же, движения те же, все по безграмотному трафарету, и смотрит голодно и выжидающе, будто я у нее по гроб жизни теперь в долгу, будто не сама бросилась в постель ко мне…