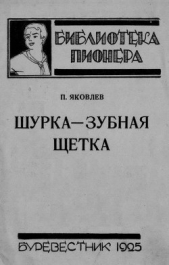Посмотри в глаза чудовищ

Посмотри в глаза чудовищ читать книгу онлайн
Эта книга – круто замешанный коктейль из мистики, философии, истории и боевика, созданный фантазией Андрея Лазарчука и Михаила Успенского с присущим этим авторам мастерством. Ее главный герой – великий русский поэт Николай Гумилев. Он не погиб в застенках ЧК в далеком 1921 году. Нет, он был спасен от верной гибели представителями могущественного Пятого Рима, древней оккультной организации. Он был посвящен в тайные знания, приобрел невообразимое могущество и даже получил дар вечной молодости, но взамен емупришлось превратиться из поэта, избранника Музы, в отважного бойца с беспощадными чудовищами, стремящимися уничтожить наш мир...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда-то этот понятый и принятый запрет доводил его до умоисступления. Спасала черная тетрадь. В нее он прятал себя настоящего. Где она теперь, эта тетрадь… Потом, после шестьдесят восьмого проклятого года, он иногда записывал нечаянные строки, но обязательно сжигал бумагу. Буквы взлетали к богу.
Запищал телефон. Торопливо. Междугородный.
– Ответьте Симферополю, – сквозь шипение сказала телефонистка.
Потом прорезался голос, гулкий, как из медного рупора, неузнаваемый:
– Николай Степанович?
– Да, я.
– Вы меня слышите?
– Слышу, кто это?
– Это Тигран! Беда, Николай Степанович! Вовчик в самолете помер! Сердечный приступ…
МЕЖДУ ЧИСЛОМ И СЛОВОМ
(Прага, 1933, сентябрь)
Фон Зеботтендорф схватился за грудь и просипел:
– Стойте… Николас…
– Что с вами? – Я подхватил его под руку.
– Сесть… мне надо сесть…
Сесть в Старем Мясте некуда, разве что прямо на булыжники. Улочки, куда завел меня фон Зеботтендорф, были такие узкие, что можно было, разведя руки, коснуться противостоящих домов. Глухие стены, окна за щелястыми ставнями, запертые двери без крылечек… Я подвел, почти подтащил его, легкого и тощего, как птица-марабу, к такой двери, усадил на порожек и дернул шнурок звонка. За дверью загудело. Потом, минут пять спустя (фон Зеботтендорф постанывал; лицо его в дневных сумерках этих щелевидных пространств стало серым, влажным, как лягушачья шкурка. Сразу стало видно, что он глубокий старик…), зазвучали осторожные шаги.
– Кто там? – тихо спросили за дверью.
– Человеку плохо, – сказал я по-немецки. – Принесите, пожалуйста, воды.
– Пан немец? – поинтересовались там.
– Нет, русский, – я сдержался.
– А пан, которому плохо, он тоже русский?
– Нет, он как раз немец.
– Так пусть ему и дальше будет плохо, – и шаги зашуршали обратно.
– Сволочь, – сказал я вслед.
– Не надо, Николас, – тихо сказал фон Зеботтендорф. – Я… обойдусь. Но они здесь… они еще… – он закашлялся.
– Ну уж нет, – сказал я. – Пусть в этом доме никогда не будет свежего молока…
Я присел на корточки и гвоздем начертил на стене у самой земли перевернутую руну «Йеро». Теперь, пока хозяин не удосужится побелить стену…
– Вы страшный человек, Николас, – сказал Зеботтендорф. – Ну а теперь вы понимаете, почему мы их не любим?
– Нет, – сказал я. – Немец бы натравил на нас еще и свою маленькую серую с подпалинами собачку…
– И правильно бы сделал, – вздохнул Зеботтендорф. – Ходят тут всякие…
– Вам уже лучше? – спросил я.
– Лучше, – сказал он. – Почти хорошо. Злость – самое действенное из лекарств.
– И как вы с таким характером прошли посвящение, не представляю, – сказал я.
– По меркам семнадцатого века мой характер считался золотым… Почитали бы вы тогдашних гуманистов.
– Да читал я…
Фон Зеботтендорф, кряхтя, поднялся, и мы медленно направились в сторону Altenschule. Там, позади нее, на древнем кладбище, должен был ждать нас рабби Лев.
После сумрака улочек открытое пространство кладбища казалось окутанным ослепительно белым полутуманом. Пахло сгоревшими листьями. Сторож прошаркал своей метлой рядом с нами, даже не взглянув в нашу сторону. Росту в нем было примерно метр двадцать. Огромный горб свешивался набок. Небо было странного цвета: сиреневое с сединой. Солнце словно растворилось, поэтому мы не отбрасывали теней. В Тинской церкви зазвонили к обедне, и светящийся туман в такт ударам колоколов заколыхался.
– И где мы должны искать этого старого жулика? – пробормотал фон Зеботтендорф.
– Думаю, он подойдет сам…
– В конце концов, Николас, это унизительно.
Я вспомнил прошлогоднюю львовскую встречу и решил воздержаться от комментариев.
– Напрасно вы это все затеяли, Рудольф, – сказал я. – Не отдаст он вам ваши буковки. И напрасно вы вечно требуете в посредники меня… У меня и своих дел полно. К шаолиньским монахам, например, все никак не соберусь…
– Да, – сказал барон. – Вам это тоже уже надоело. Я очень хорошо понимаю вас. Вот что бывает, когда подлинный мастер начинает ставить национальные интересы выше интересов братства. Сразу возникает узость мышления, сварливость, старческая подозрительность…
– Можно подумать, что в Туле сидит космополит на космополите.
– Но вы же осознаете, что все рано или поздно должно влиться в предначертанное арийское русло! Зачем же нам тратить силы и дни напрасно?
Я вздохнул – как мог выразительно.
Полукруглые надгробия несли в себе такой груз спрессованной вечности, что, попади мы, выйдя с кладбища, в Прагу времен Карла IV, я бы не удивился. Напротив – удивление вызовет трамвай или белый «Мерседес Бенц»…
По аллее навстречу нам быстро шел, почти бежал узкий человек в черном лапсердаке.
– Господа, господа! – быстро заговорил он. – Я понимаю, вы ждете рабби Бен-Бецалеля?
– Да, – сказал я. – Мы посланники королевы Елизаветы. Меня зовут доктор Ди, а это мой приятель Эдуард Келли…
Он посмотрел на нас дико, потом рассмеялся.
– А, вы шутите! Спутник доктора Ди должен быть корноухий! Господин фон Зеботтендорф, господин Гумилев! Рабби просит у вас прощения за свое непредвиденное отсутствие. Сегодня утром ему пришлось срочно выехать в Иерусалим…
Даже по моему мнению это выходило за всяческие рамки приличий.
– Передайте вашему рабби, – барон побелел от ярости, – что этот его непредвиденный отъезд обойдется ему в цену, которой он никогда не сможет заплатить.
Это было одно бесконечно длинное немецкое слово, и оно прозвучало, как древнее проклятие. Посланник попятился.
– Пойдемте отсюда, Николас, – барон опять держался за сердце. – Мне надо сесть…
ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ
(Киев, 1921, октябрь)
В тот день Брюс был особо торжествен – как папаша-ветеран, отправляющий любимого младшего сына сдавать экзамен на первый офицерский чин.
– Дождались! – сказал он взволнованно и широко перекрестился. – Пришло дозволение приобщить вас малых тайн.
Предыдущего дня бабка Горпина выпроводила нас погулять по берегу Днепра, а сама за это время в одиночку выбелила хатку и навела в ней порядок подлинно царскосельский, и даже глиняный пол вдруг заблестел, как паркет. Вечером она же договорилась с соседней русской семьей, чтобы те истопили баню, и выдала нам, поворчав для виду, кусок настоящего довоенного дегтярного мыла. В бане Яков Вилимович подробно рассказывал об истории своих многочисленных шрамов и уязвлений. «Под Очаковым бился с туркою, наносил ему поражение…» Нашлись и веники и мочала. Мы напарились, переоделись в чистое хрусткое солдатское исподнее, которым широко торговали навынос красные командиры, кое-как добрели, разморенные, до хатки, сели у самовара и предались неге.
– А соседи не донесут? – вдруг во мне проснулись питерские (поздновато обретенные) опасения.
– Донесут? – изумился Яков Вилимович. – На Горпыну? Та вы шо! Та воны ж Горпыны, як бис ладану, лякаються… – И поведал, как в прошлом году здешние комсомольцы вздумали подшутить над Горпиной, переодевшись чертями. Тогда Горпина смолчала. Зато когда те же комсомольцы затеялись строить маленькую железную дорогу, дабы подвезти новой власти дровишек, она поворожила над пирожком с гнидами, и шутники-комсомольцы семь тех несчастных верст ползли, согласно фронтовой присказке, как беременная вошь по мокрому тулупу – больше трех месяцев.
Нынешняя осень была не чета той, прошлогодней. Стояла тихая и теплая прозрачная погода. От желтых листьев исходил свет. Даже красноармейцы, в изобилии роившиеся на улицах, старались вести себя сдержанно.
К кинематографам, где давали «Кабинет доктора Калигари» и «Девицу Монтеррей», стояли очереди, в театры было вообще не пробиться…
Правда, один раз мы все же попали в балет на гастроли Мариинки. Поскольку все старые спектакли все еще были запрещены, а новые только создавались, театры прибегали к немыслимым ухищрениям. Так, балет, который мы смотрели, именовался «Сон красноармейца Иванова». Красноармеец Иванов стоит на посту. Потом его сменяют. Он танцует в казарму, снимает шинель и сапоги – и засыпает. Ему снится сон… что бы вы думали? Конечно, «Лебединое озеро». В финале красноармеец Иванов просыпается, надевает шинель и сапоги и танцует на пост. Занавес.