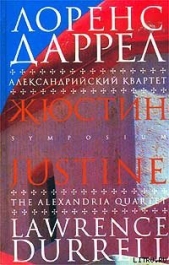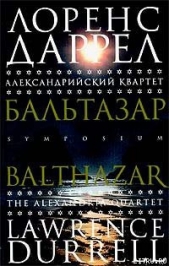Жюстин (Александрийский квартет - 1)

Жюстин (Александрийский квартет - 1) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы сворачиваем за угол, и мир становится сетью налитых серебром артерий, неровно обрезанной по краям тьмой. В этом дальнем закоулке Ком-эль-Дика в этот час ни души, и лишь назойливый бродячий полицейский слоняется по улицам, как виноватая мысль в мозговых извилинах Города. Наши шаги вызванивают тротуар с мертвой мерностью метронома, двое мужчин, каждый в собственном времени и в собственном городе, отрешенные от мира, шагающие так, как ступали бы первопроходцы по мрачным каналам Луны. Персуорден говорит о книге, которую он всегда хотел написать, а еще - о той преграде, что возникает перед горожанином, стоит ему только увидеть произведение искусства.
"Если представить себя спящим городом, к примеру... а, каково? Можно сидеть тихо-тихо и слушать, как течет жизнь, струйками, множеством струек: желание, страсть, воля, познание, вожделение, желание желать. Словно бежит миллионом ног тысяченожка с телом, не вольным с ними совладать. Просто трупом ложишься, пытаясь этаким Магелланом замкнуть бесконечность в шар. Мы никогда не бываем свободны, мы, писатели. Если бы сейчас рассвело, я говорил бы куда более стройно. Хотел бы я быть музыкален, душой и телом. Мне нужны стиль, гармония. А не эти тонкие струйки, что сочатся сквозь барабанный бой рассудка. Это ведь болезнь века, разве нет? Потому и накатывают на нас тяжелые валы оккультизма. Ну вот, Кружок, Бальтазар. Он никогда не поймет, что ни с кем не нужно быть столь осторожным, как с Богом, ведь Он так властно апеллирует ко всему самому низменному в природе человеческой - к нашему чувству собственной ничтожности, к страху перед неизвестностью, перед неуспехом, и прежде всего - к нашему чудовищному эгоизму, склонному даже в венце мученика видеть атлетический приз. Истинная, сокрытая сущность Бога должна быть свободна от всяких определений: стакан родниковой воды, без вкуса, без запаха, только свежесть; и конечно же, зов ее снизойдет к немногим, очень немногим истинно посвященным".
"Что же до большинства - они все это носят в себе, да только ни за что на свете в том не признаются, не станут копать вглубь. Я не верю в системы, в доктрины, даже лучшие из них способны лишь - и это максимум, на который они способны, - извратить изначальную идею. Да и вообще, все попытки означить Бога словами, идеями... Никакая частность не в состоянии объяснить полноты бытия; хотя полнота бытия время от времени просвечивает именно сквозь частности. Господи, какой я пьяный. Если Бог захотел бы воплотиться, он стал бы искусством. Скульптурой или медициной. Вот только безумный рост знаний в разнесчастную нашу эпоху вконец отбил у нас природный нюх - нам уже не учуять нужных запахов, не взять след.
Знаете, если закроешь свет свечи ладонью, на стену падает сетчатая тень кровеносных сосудов, живая карта внутреннего тока крови. Даже и этой тишины недостаточно. Никогда там, внутри, не наступает мертвый штиль: никогда не приходит тишина, которой питается трисмегист. Всю ночь напролет лежишь и слушаешь, как пульсирует кровь в артериях головного мозга. Чресла мышления. И ты послушно забредаешь в ловушки примеров из истории, причин и следствий. И не отдохнуть тебе, не отречься, не глянуть в магический кристалл. Ты ползешь сквозь плоть, сквозь тело, мягко раздвигая перед собой сплетения мышц - мышцы гладкие, мышцы полосатые; следишь глазами кольчатые извивы пламени на внутренностях, брюшная полость, сладкое мясо, корчится в приступе удушья печень, словно засорившийся фильтр, пузырь с мочой, красный расстегнутый пояс кишечника, мягкий стынущий коридор пищевода, голосовая щель, сочащаяся слизью, мягкая - мягче сумки кенгуру. О чем я? Ты - в поисках принципиальной схемы, ты ищешь синтаксис Воли, чтобы именем его установить раз и навсегда незыблемый порядок и заглушить во рту металлический привкус безысходности. Тебя бросает в холодный пот, стылые порывы паники - когда, сокращаясь снова и расслабляясь, мягко дотрагиваются до тебя занятые своей повседневной работой внутренности, и нет им дела до человека, наблюдающего за ними, и человек этот - ты. Целый город в постоянном движении, фабрика экскрементов - Господи прости, - ежедневное жертвоприношение. Ведешь человека к алтарю и попутно приглашаешь его в туалет. Как одно с другим соотносится? Где отыскать соответствие? Во тьме под открытым небом у железнодорожного моста ждет женщина, ждет любимого человека, а в крови ее и плоти - все то же неописуемое кишение; плещется вино в невидимых миру сосудах, привратник желудка срыгивает, как младенец, непостижимый, иррациональный мир простейших множится в каждой капле семени, слюны, мокроты, мускусом пахнущего пота. Он заключает в объятия спинной хребет, протоки, полные аммиака, сеющие пыльцой оболочки мозга, мерцает роговица в маленьком своем тигле..."
И он смеется вызывающим мальчишеским смехом и откидывает голову назад, пока не взблескивает лунный свет на великолепных белых зубах под аккуратными усиками.
В одну из таких ночей ноги принесли нас к порогу Бальтазара, и, увидев свет в его окне, мы постучали. Той же ночью из трубы допотопного граммофона (с чувством столь сильным, едва ли не с ужасом) я услышал любительскую запись голоса старого поэта, читающего строки, которые начинаются так:
Родные голоса... но где же вы?
Одни давным-давно мертвы, другие
потеряны, как если бы мертвы.
Они порой воскреснут в сновиденьях,
они порой тревожат наши мысли...*
[Перевод с новогреческого Р. Дубровкина.]
Эти беглые воспоминания ничего не объясняют, и ни за что не в ответе; но они возвращаются снова и снова, лишь стоит мне вспомнить о моих друзьях, - как если бы сами наши привычки, оттенки наших голосов были пропитаны тем, что мы чувствовали тогда, затверженными когда-то ролями в давно уже сыгранных спектаклях. Скольжение шин по желтым валам пустыни под небом голубым и стылым, зимой; или летом, пугающая сила лунного света обращает море в фосфор - тела отблескивают жестью, раздробленные во прах, в шипящие пузырьки электричества; прогулки к последнему клочку песка возле Монтасы, сквозь плотную зеленую тьму Королевских садов, крадучись, мимо дремлющего на часах солдатика, туда, где море вдруг теряет силу, покалеченное сушей, и соленые валы ковыляют по песчаной отмели. Или держась за руки, вдоль по длинной галерее, сумеречной в столь ранний час из-за странного желтого зимнего тумана за окнами. Рука ее замерзла и потому скользнула в мой карман. Она сегодня абсолютно бесстрастна, оттого и говорит мне, что любит меня, - раньше мне этого слышать не доводилось. Сквозь высокие узкие окна внезапно врывается шорох дождя. Темные глаза, спокойные и удивленные. Вселенский центр тьмы подрагивает и меняет очертанья. "Я стала бояться Нессима с недавних пор. Он стал другим". Мы стоим перед китайскими акварелями из Лувра. "Значимость пространства", - произносит она неприязненно. Исчезли формы, размыты цвета, канул в небытие хрусталик глаза - лишь зияющий пролом, через который льется в комнату бесконечность; голубой залив, где было прежде тело тигра, изливается в суетливый воздух студий. Потом мы поднимаемся по темной лестнице на самый верх, чтоб повидать Свеву, поставить пластинку и потанцевать. Миниатюрная модель старательно делает вид, будто у нее разбито сердце, потому что Помбаль бросил ее после "ураганного романа" длиною едва ли не в целый месяц.