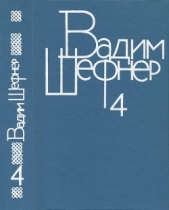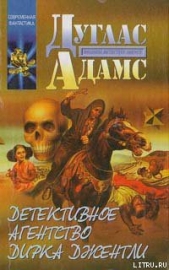Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде

Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первыми сюда приходили воспитатели. Они рассаживались на диванах, вели неторопливую беседу. Сам завдетдомом, Василий Федорович, высокий, тощий человек в длинном потертом черном пиджаке, с деловым видом подбрасывал в печурку сосновые чурочки, сложенные в выемке камина. Три окна казались совсем черными, за их стеклами лежало холодное пространство, а здесь уютно светила восьмилинейная керосиновая лампа, уютно пахло дымом от печурки, весело потрескивали сосновые полешки; железная труба, идущая от буржуйки к каминному дымоходу, постепенно накалялась, краснела, в комнате становилось все теплей и теплей. Я полулежа-полусидя устраивался за спиной матери на широченном диване -и сразу как бы переставал существовать для всех на свете, кроме самого себя. Мне очень нравилось слушать (а в сущности, подслушивать) разговоры взрослых, хотя многого я не понимал, а многое понимал не так.
Разговоры эти чаще всего касались дел местных, детдомовских: такой-то воспитанник вытворил то-то; из старорусского УОНО собираются прислать нового воспитателя; экономку дежурный опять уличил в недовесе (между воспитательским персоналом и хозяйственниками вообще частенько случались недоразумения). Иногда толковали на отвлеченные темы -- о театрах, о писателях. Мать хвалила стихи Алексея Толстого, Фета, Апухтина. Иногда спорили о Надсоне и Бальмонте, -- некоторые их признавали, другие нет. Одна воспитательница, красивая, смуглая, нервная, с подергивающимися при разговоре плечами, ругала Северянина. "Такая дикость! Такая дикость!" -- с гневным отвращением восклицала она, и мне начинало чудиться, что этот Северянин когда-то очень обидел ее, обругал как-нибудь, а то даже зажилил ее хлебную пайку. В то же время из ее разговора ясно было, что лично она с ним незнакома, -- и это повергало меня в недоумение: в те свои годы я еще не представлял себе, что можно кого-нибудь любить или ненавидеть заглазно, не сталкиваясь с ним в своей обычной, повседневной жизни. Так как эта воспитательница была мне несимпатична своей нервностью и, быть может, своей обнаженной одухотворенностью, то, наперекор ей, таинственный Северянин не казался мне таким уж плохим, и я представлял его себе в виде картинки из какой-то книги: огромный мужчина с бородой, одетый в густые меха, гордо стоит на льдине, опираясь на якорь; из-под льдины высовывают головы тюлени, а на заднем плаче виден белый медведь.
Много позже, в дни своей юности, я прочел книгу Игоря Северянина. Некоторые стихи мне поначалу не понравились, вызвали чуть ли не такое же раздражение, как у той воспитательницы, другие тоже вроде бы не понравились, но сразу и навсегда запомнились наизусть через "не хочу". Сейчас я считаю, что Северянин -- поэт неровный, но в чем-то своем -поэт настоящий Записано, что Баратынский в разговоре сказал однажды: "Поэзия есть полное ощущение известной минуты". Эта формула, в положительном своем значении, вполне применима к Северянину: какие-то минуты своего времени он ощутил очень точно. В лучших его стихотворениях отражается ритм тех напряженных, странных, болезненных лет, которые предшествовали первой мировой войне и революции. Будучи подлинным поэтом, Игорь Северянин проявил себя и как честный гражданин: умер он в большой бедности на оккупированной немцами земле, с врагами не сотрудничал, хоть его на это и сманивали.
Почти каждый вечер, поговорив о своих делах, о том да о сем, взрослые начинали петь. Заводилой был все тот же Василий Федорович, второй запевалой -- воспитательница со странным тогда для меня именем; отчество же ее странно для меня и посейчас: звали ее Алла Филологовна. Может быть, именно из-за имени-отчества я хорошо запомнил ее внешность: молодая коренастая женщина с матово-бледным лицом, с монгольским разрезом глаз; она носила темное платье с узеньким белым воротничком; мне нравилась неторопливая четкость ее движений, ее неброская опрятность; звуковая память, как я уже говорил, у меня никудышная, но ее голос помню: чуть хрипловатый, как бы шершавый, тревожный какой-то.
Василий Федорович и Алла Филологовна затягивали песню -- и к ним неспешно, словно бы нехотя, присоединялись другие воспитатели, впрочем не все. Теперь я уж никогда не пойму и не узнаю, хорошие ли были голоса у поющих, в лад ли они звучали. Почти каждая песня брала меня целиком, растворяла в себе без остатка; я чувствовал себя будто во сне, когда летаешь. А в перерывы между песнями все казалось необыкновенным, словно увиденным в первый раз.
Пели песни и старые, и самые новые, новых знали меньше. Начинали с "Ермака" или "Вниз по матушке по Волге", потом запевали "Смело, товарищи, в ногу", а затем заводили песню про старца святого Питирима, в которой "много разбойнички пролили крови честных христиан"; песня про коммунара, приговоренного к расстрелу, сменялась "Среди долины ровныя" или "Вечерним звоном"; быстрых, бойких песен не пели.
Мне все нравилось. Только в песне про Стеньку Разина огорчало то место, где он бросает княжну в Волгу: княжну мне было жаль. Однажды, когда мы были вдвоем, я пожаловался матери на такое поведение Стеньки. Мать ответила, что и Стенька Разин, и Пугачев были бунтовщики. Еще она сказала, что если бы Пугачев победил, то всему народу пришлось бы плохо: в России не стало бы твердой власти, армия бы развалилась -- и тогда Англия, Турция и другие государства захватили бы Россию, погубили бы ее. Кто таков Пугачев, я тогда толком не знал и производил его фамилию от пугача, детского пистолета; мне показалось, что бунтовал он совсем недавно, -- с таким неостывшим раздражением отозвалась о нем мать. К советской власти она относилась иначе; не все в "нынешнем режиме" пришлось ей по душе, но она считала, что это -твердая власть, которая заботится об офицерах и солдатах, и этой власти надо служить честно. Мать не раз сетовала, что в будущем мне не удастся поступить в военно-морское училище, ибо если даже мне не помешает дворянское происхождение, то меня все равно отбракуют из-за поврежденного глаза -- ведь с таким дефектом зрения туда никого не приняли бы и в царское время. Придерживаясь семейных традиций, мать считала, что служба на флоте -- дело более благородное, нежели служба в сухопутных войсках: морской офицер подвергается на корабле тем же опасностям, что и рядовые матросы, -- на море тыла нет; в подтверждение этого она приводила старинную сентенцию: "Генерал посылает в бой, а адмирал -- ведет".