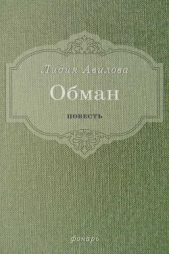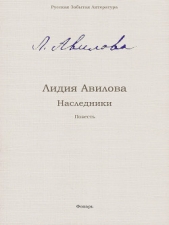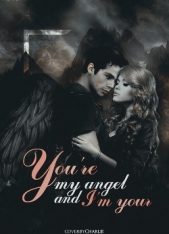Весеннее солнце зимы. Сборник

Весеннее солнце зимы. Сборник читать книгу онлайн
Рассказы и повести, вошедшие в настоящую книгу, написаны убедительно и правдиво: точно, без всяких внешних прикрас передано психологическое состояние героев, интересных своим видением мира и отношением к нему.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ ЗИМЫ
По тупой давящей боли в голове профессор знает, что не проспал и трех часов. Есть что-то гнетущее… Больной с желудочным кровотечением? Кровотечение все еще не удалось остановить. Гемоглобин и давление пока терпимые. И все ж неспокойно, не по себе что-то… Нет даже вразумительного анамнеза. По всей вероятности, это язва, и язва немолодая, но в анамнезе только колит, один колит, вот уже сколько лет. Нужно ждать. Не может оно не прекратиться, это кровотечение. Делается, кажется, все. Все возможное…
Профессор прикрывает глаза, лежит, противясь желанию позвонить. Будь плохо, его бы уже вызвали. Он дважды предупредил, уходя. Значит, больной спит, нет ничего страшного. В двенадцать передали неплохой анализ. Значит, спит… Неразговорчивый человек. Актер по профессии. Всегда почему-то думалось, что актеры разговорчивы.
Профессор трет щеку, собирая кожу в складки. В комнате темно и душновато от спущенной шторы. Федя, сын, чуть похрапывает на диване…
Чувство тревоги не проходит. Эта девочка с циррозом печени, на консультацию к которой его пригласили вчера… Худенькое тело. Неласковый, подозрительный взгляд. Тринадцать лет девочке, которой уже ничем не помочь… Когда умирают старики, говоришь их родным, что все смертны. Когда умирают дети, сказать нечего…
В детстве мы верим, что мать может защитить нас даже от смерти. Позже нам кажется, что мы можем что-то удержать силой любви и отчаяния… удержаться властью недоделанных дел. Смерть не разбирает… Возможно, другие сделают то, чего не успели мы. Как сказал Бехер: «Все, что должно свершиться, свершается… Слишком долгие паузы не дозволены… Если ты не сумел это сделать, сделают другие, но по-другому». «По-другому» — слово, скользящее мимо сознания, пока мы упоены мыслью: «Все, что должно свершиться, свершается». Только в старости постигаем, что нам нужны не абстрактный прогресс, гуманизм и прекрасное, а Пушкин и Рембрандт, Эйнштейн и Пирогов…
До поры до времени мы верим в прогресс бездумно… Раз прогресс — значит, все хорошо. Как не скоро понимаем мы, что прогресс — не бог, а то, что делаем мы сами, и не на кого переложить ответственность с наших плеч…
Профессор все-таки позвонил в больницу. Больной спит, ничего нового. В маленькой пустующей полукухне-полуверанде профессор открывает окно на улицу, стоит возле него.
У домов напротив горят фонари. Серая гофрированная крыша соседнего дома наполовину в тени — два серых цвета. За ней два желтых фасада: ярче и светлее. Темно-серый асфальт. Верхушка дерева — как бледно-зеленый огонь. По асфальту пробежала белая собака, бодрая, какими не бывают собаки днем…
Когда-то, юнцом, он всерьез считал, что к тридцати годам вместе с молодостью проходят и чувства. Но вот прошла жизнь — а он все еще и страдает, и радуется.
Где та белокурая девушка, которую так пылко любил он в семнадцать лет, требуя взамен не меньше, чем вечное счастье? Потом была другая любовь, когда уже ничего не в состоянии требовать, а счастье — это просто надежда увидеть еще раз. Казалось, что этой любви не будет ни утоления, ни конца. Но на смену ей пришла беспокойная и суеверная, скрываемая из стыдливости привязанность к сыну, когда каждое доставленное себе удовольствие казалось чуть ли не предательством ребенка. Пойти в театр, посидеть с друзьями в ресторане, полюбоваться хорошенькой женщиной — он совсем отвык тогда от всего этого. Маленький Федя, работа и еще книги — так было долгие годы, и он не жалеет о них. А потом появилась внучка… Странно, что их нет и может не быть, этих детей, но стоит им появиться — и все, что любил до них, уже значит гораздо меньше в сравнении с ними. С какой царственной небрежностью проходит Федина Аленка мимо отца — не потому, что сердится на него, просто потому, что он есть и никуда не денется. А сейчас вот он не нужен. Сейчас нужна Эля, мать, нужна бабушка. А завтра будет нужен он, дед. Чтобы поговорить «о том, о сем, ни о чем, обо всем». Она любит эту присказку. Это уже ритуал. «Ну, о чем мы станем говорить?» — спрашивает он, и каждый раз с неизменным удовольствием, лукаво и радостно-ожидательно она отвечает: «О том, о сем, ни о чем, обо всем!»
Часто она декламирует Элиным знакомым какие-то стишки, ею восхищаются, хвалят… Но свое сокровенное, импровизированные полустихи, поверяет только ему, деду.
— Разве песни, они не поются? — таинственно начинает она. — Только падают строгие листья…
Губы ее вытягиваются в трубочку, она склоняет голову набок, будто прислушиваясь, и вдруг порывисто повышает голос:
— О песеньи, песней, песечи!
Если входит отец и спрашивает, что она тут говорила, Аленка небрежно пожимает плечами.
— Да я так, болтала.
— А что это за «песней»? — улыбается Федор.
Девочка досадливо вздыхает:
— Ф-фу, ну разные песни!
Иногда Аленка проходит мимо отца, не замечая его. Федор ловит ее за руку, шлепает тихонько.
— Мы в некотором роде родственники, а родственников положено замечать!
Шлепок отца и смешит Аленку и сердит — это слышно в ее смехе, немного нервном…
У Аленки свои дела, у Феди — свои. И все-таки он сохранил их друг для друга, занятых своими делами отца и дочь…
Профессор думает о больном с кровотечением, о сыне, о любви Федора к той женщине, которую он, отец, видел только однажды. В тот раз, когда непрошенный явился к ней. Еще и сейчас, спустя столько времени, ему стыдно вспомнить об этом. Дурацкая затея, нелепое предприятие… Нехорошо, когда на старости лет вмешиваешься в любовные дела сына.
Он пошел к ней, узнав окольными путями адрес… Худенькая женщина в старой запущенной квартире. Чувствовалось, что она очень одинока, еще больше одинока сейчас, когда любит, и что ей, наверное, уже не суметь быть счастливой и легкой. Ему было не по себе, но чем дольше смотрел он на нее, тем больше раздражала его и неловкая ее ироничность, и ее инфантильный вид, не просто невзрослый, а такой, словно она, так и не перестав быть подростком, заносчивым и угловатым, уже начинает стариться. Все его раздражало, даже рояль в углу: он прямо-таки видел, как она устраивает себе из музыки молельню. И действительно, не успел он покинуть двор, как из ее окон уже послышалась музыка. «Шопен, непохожий на Шопена», — фыркнул он, сердясь, что у нее не нашлось нормальной человеческой скромности подождать, пока он выйдет за ворота.
И вот теперь, в такие бессонные ночи, все это никак не уходит от него. Он до сих пор не знает, удалось ли ему убедить ее… Нет, он не держался как проситель, он просто сказал ей, что думает обо всем этом. Она не уступала, усмехалась его доводам, строптиво молчала, язвила неумело. Может, ее только на это и хватило? Или Федор сам одумался? Ничего не известно. Но они расстались. Прошло три года. И вот Федор по-прежнему весел и энергичен, у него есть работа и есть семья. Эля, обретя потерянного было мужа, снова порхает мотыльком. Аленка — вся в себе, как счастливый маленький лунатик… И только он, старик, в такие вот ночи ежится от чего-то, похожего на стыд. Да еще где-то, быть может, страдает неловкая эта женщина.
Когда профессор возвращается из больницы, уже позднее утро. Позднее — в тяжелом блеске песка у источника, в том, как спешат обогнуть, пройти незащищенную от солнца площадку запоздалые «водопойцы». Позднее утро и в мыслях профессора, спокойных и трезвых.
Больной все кровоточит, но не сильно. Анализ сносный, и вид у больного неплохой. Нужно ждать.
В приоткрытой двери кухоньки-веранды видны ноги Федора в запыленных ботинках.
В комнатах еще ночной беспорядок: спущенная штора, неубранная постель, в двери застряла спальная туфля, с веранды доносится постукивание рукомойника… Вещи здесь сочетаются странным образом. Прекрасные книжные полки — и железная, с ржавой заслонкой, печурка, которую все хотят выбросить на лето, да руки не доходят. Холодильник, стиральная машина — и старый протекающий рукомойник. Накрахмаленные простыни — и запыленные абажуры, и шубы, загромождающие вешалки… После их с Федором дома этот дом кажется тихим, несмотря на ворчливость Клавдии, хозяйки, и звонкую говорливость ее дочери Норы. Каждый живет здесь на свой манер, не стесняя гостей и не стесняясь их.