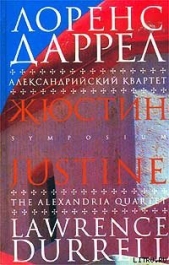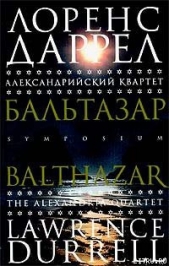Жюстин (Александрийский квартет - 1)

Жюстин (Александрийский квартет - 1) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вижу: высокий человек в черной шляпе с узкими полями. Помбаль окрестил его "ботаническим козлом". Он сухощав, слегка сутулится, у него глубокий рокочущий голос, очень красивый, особенно когда он цитирует кого-то или читает стихи. При разговоре он никогда не смотрит в лицо - особенность, присущая многим гомосексуалистам. В нем это, однако, вовсе не от извращенности, которой он не только не смущается, но и относится к этой своей особенности вполне индифферентно; его желтые козлиные глаза - глаза гипнотизера. Если он и не смотрит вам прямо в глаза, то исключительно ради того, чтобы вас же уберечь от взгляда настолько безжалостного, что иначе вам пришлось бы распроститься со спокойствием духа на целый вечер. Великая тайна - откуда у него такие уродливые руки? Я бы на его месте давно отрезал их и выбросил в море. На подбородке у него произрастает одинокий завиток черных волос - вроде того, что видишь порой над копытом мраморного Пана.
Бывало, бродя с ним вдвоем вдоль канала над тусклым бархатом густой кофейной жижи, я ловил себя на том, что пытаюсь вычислить ту неуловимую черту, которая так меня в нем привлекала. Тогда я еще ничего не знал о Кружке. Бальтазар много читает, но речь его отнюдь не перегружена разного рода литературщиной, как у Персуордена. Он любит поэзию, любит притчи, любит науку и софистику, но за шахматными ходами его мысли кроются здравый смысл и деликатность. Есть кое-что и глубже, под деликатностью, - некое глухое эхо, оно придает его мысли густоту и плотность. Он склонен говорить афоризмами и смахивает порой на этакого местного оракула. Теперь я понимаю, что он относится к числу тех редких людей, которые выстроили для себя философскую систему и нашли свое призвание в том, чтобы по мере сил ей соответствовать. Вот здесь-то, мне кажется, и скрывается то не поддающееся анализу свойство, что придает его манере говорить остроту английской бритвы.
Он врач и большую часть своего рабочего времени проводит в государственной венерической клинике. (Однажды он сухо обронил: "Я живу в самом центре жизнедеятельности этого Города - в его мочеполовой системе: отрезвляющее, надо сказать, местечко".) И еще - он единственный известный мне человек, педерастические наклонности которого никак не отразились на врожденном мужском складе ума. Он не пуританин, но и не наоборот. Несколько раз я врывался в его маленькую комнату на рю Лепсиус - в комнату со скрипучим камышовым креслом - и заставал его спящим в одной постели с каким-нибудь матросом. Он не выказывал никакого смущения и даже не пытался как-то объяснить присутствие своего приятеля. Одеваясь, он иногда поворачивался, чтобы подоткнуть вокруг спящего простыню. Подобную непринужденность я воспринимал как комплимент.
В нем много разного понамешано: иногда я слышал, как голос его дрожит от переизбытка чувств, когда он толкует какой-нибудь аспект каббалы и старается прояснить его для членов Кружка. Но однажды, когда я с воодушевлением рассуждал о некоторых его замечаниях, он вздохнул и сказал с великолепным александрийским скепсисом, который непостижимым образом угадывается за безраздельной верой и приверженностью Гносису: "Все мы ищем разумных доводов, чтобы уверовать в абсурд". В другой раз после долгого и утомительного спора с Жюстин о среде и наследственности он сказал: "Ах, моя дорогая, после того как философы потрудились над нашей душой, а врачи - над нашим телом, что можем мы знать о человеке достоверно? Только то, что он, когда все сказано и сделано, - всего лишь труба для прохождения жидкостей и твердых тел, бочонок мяса".
Он учился вместе со старым поэтом и дружил с ним, и о нем он говорит всегда так тепло и так проникновенно, что каждый раз меня пробирает до костей, о чем бы он ни вспоминал: "Иногда мне кажется, что от него я научился куда большему, чем благодаря всем моим философским штудиям. Будь он религиозным человеком, его умение находить невероятное равновесие между иронией и нежностью сделало бы из него святого. Однако он был всего лишь Божьей милостью поэт и зачастую несчастен, но когда ты находился с ним рядом, возникало такое чувство, словно он ловит каждую пролетающую минуту и поворачивает ее с ног на голову, счастливой стороной. Он, конечно, загнал себя до смерти, там, внутри. В большинстве своем люди лежат смирно и позволяют жизни играть с собой, как с теплыми струйками душа. Картезианскому кредо "Я мыслю, значит существую" он противопоставил свое собственное, которое могло бы звучать как-нибудь вроде: "Я наделен воображением, значит я принадлежу и я свободен".
О себе Бальтазар говорит уклончиво: "Я еврей, а это подразумевает кровожадную еврейскую страсть объяснять все и вся. На это можно списать кое-какие из недостатков моего мышления, их-то я и пытаюсь уравновесить тем, что за их вычетом от меня остается, - каббалой в основном".
* * *
Еще я помню, как встретил его однажды холодным зимним вечером: я шел по вылизанной дождем Корниш и уворачивался от внезапных потоков соленой воды из водостоков вдоль парапета. В черепе под черной шляпой звенят Спорады и Смирна - места его детства. Под черной шляпой - неотвязный проблеск истины; позже он пытался сделать его зримым и для меня - на английском, ничуть не менее безупречном оттого, что язык ему пришлось учить. Не стану отрицать, мы встречались и раньше, но мельком, и снова разошлись бы, молча кивнув друг другу, если бы он не остановил меня в полном смятении и не схватил за руку. "Вы мне поможете? - воскликнул он, хватая меня за руку. - Пожалуйста, помогите мне!" Его бледное лицо с мерцающими козлиными глазами наклонилось ко мне в подступающих сумерках.
Первые бесцветные фонари уже начали неумело натягивать влажный бумажный занавес Александрии. Линия набережной, повторенная корявой линией кафе, полупроглоченных соленой дымкой, фосфоресцировала неровным грязноватым светом. Дул южный ветер. За камышовой гущей припал к земле Мареотис, мускулистый, как играющий сфинкс. Он потерял, сказал он, ключик от часов великолепного золотого карманного хронометра мюнхенской работы. Позже мне показалось, что за явной назойливостью он пытался спрятать тот иероглифический смысл, который имели для него эти часы: символ свободного ото всяких обязательств времени, текущего сквозь его тело и сквозь мое, и эта допотопная маленькая машинка вот уже столько лет внимательно за всем следила. Мюнхен, Загреб, Карпаты... Часы принадлежали его отцу. Долговязый еврей, одетый в меха, на санях, и в руках его - вожжи. Он ехал в Польшу у матери на руках и всю дорогу только и знал, что ее бриллианты, оправленные в заснеженный зимний пейзаж, были холодны как лед. Часы тихо тикали где-то в теле его отца и в его собственном теле тоже - время бродило в них, как дрожжи. Заводились они маленьким ключиком в форме анкха, который он держал привязанным на кусочке черной ленты в общей связке. "Сегодня суббота, прокаркал он, - в Александрии". Он говорил так, словно здесь обитала совершенно особая разновидность времени, и не так уж он был и неправ. "Если не найду ключа - остановится". Отсыревший закат догорел окончательно, он бережно вынул хронометр из блеснувшего шелком жилетного кармана. "До понедельника, до вечера. Потом остановится". Без ключа не имело смысла открывать изящную золотую крышку и обнажать пульсирующие кишочки времени... "Я все уже обыскал, три раза кряду. Я, должно быть, обронил его где-то между кафе и больницей". Я бы с радостью помог ему, но сумерки быстро густели; и, после того как мы некоторое время побродили, исследуя щели между булыжниками, поиски пришлось оставить. "Но ведь вы наверняка можете заказать новый ключик", - сказал я. "Да, - ответил он раздраженно. - Могу. Но вы не понимаете. Он был именно от этих часов. Он был их частью".