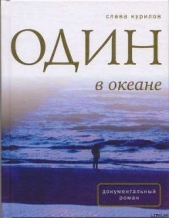Дорога на океан

Дорога на океан читать книгу онлайн
Роман Леонида Леонова "Дорога на Океан" - одно из лучших произведений советской литературы 30-х годов. Повествование движется в двух временных измерениях. Рассказ о жизни и смерти коммуниста Курилова, начальника политотдела на одной из железных дорог, обжигающе страстной струей вливается в могучий поток устремленных в Завтра мечтаний о коммунистическом будущем человечества.
Философский образ Океана воплощает в себе дорогу в Будущее, в воображаемую страну, и всечеловеческое добро и справедливость, и символ и смысл жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Там были написаны житейская скудость и недоброе провинциальное хамство. Очень скоро Похвисневы изведали это на себе. Домишко присел, а собаку тамошние шутники подтравили иголкой, а соседи вырубали вишенник на хворост, руководясь старинным правилом, что чужая яблонька жарче своего поленца горит. Чиновничий скарб поехал на барахолку; из имущества оставалось метров тридцать припрятанной мануфактуры, имевшей тогда хождение наравне с разменной монетой, да пара золотых колечек — воспоминание об одном смешном семейном торжестве. Мать стала прихварывать ногами. Девочке приходилось добывать хлеб для обеих. Сперва она побиралась, протягивала руку, и глаза ее были так чисты, что от одного смущенья ей торопились дать. Хлеба ей с матерью никогда не хватало; несколько позже Лиза обучилась красть его. Привычно каждое утро она отправлялась за овраг, в слободу Басурманку. Это не была жалость к матери — нищете неизвестна чувствительность; это был пока слепой инстинкт, выталкивающий осиротелого звереныша из его норы на добычу.
В ту пору было что красть, начинались первые базары нэпа, еще робкие, еще с оглядкой на устаревший декрет. Магически преображалось бытие. Из ям, подвалов, железных сундуков вылезали сидельцы со своими товарами. У них была внешность того, чем они торговали; молодцы с осетровыми и севрюжьими лицами постукивали плавниками по прилавку. Низвергнутый вчерашний день дразнил и виденьями обволакивал сумрачных, состарившихся, насквозь простреленных войною людей. По желтым с красноватым жирным отстоем рекам топленого молока, среди берегов дымящейся снеди, плыли ослепительные караваи ноздреватого, из домашней печи, хлеба. Это походило на пышные проводы сахарина, ржавой воблы и картофельных очисток. Люди жрали всюду, молча и украдкой от родных, точно творили преступление. Появлялись товары, способ употребления которых следовало искать в словарях: принимают это вовнутрь или только нюхают в вареном виде. Какие-то профессора кулинарии с ненавистью в потухших глазах готовили эти разухабистые яды. Можно было неделями колесить по стране и, не выходя из вагона, наблюдать тысячекилометровые натюрморты пылающих яств. Это фламандское неистовство, парад и разгул послевоенной нищеты, соблазны, сделанные из всех съедобных животных, обитающих в воздухе, в воде и на земле, завершались пирожными, райскими цветами из масла, сахара и миндаля, — низменные тезисы старого мира, высказанные на лаконическом кондитерском языке. И было жутко, жарко и смертно любопытно глядеть в прищуренные, беспощадные глаза врага, приблизившегося на штыковую схватку.
Эти люди с Басурманки скоро признали маленькую воровку. Они усмешливо, вполглаза, следили за ее неумелой хитростью и, хотя знали, что дело добром не кончится, не хватали до поры, даже помогали своим притворным равнодушием, давая время созреть событию. Так копят скряги, ежедневно жертвуя сытостью, и ребятишки сбирают землянику по закустьям, чтобы потом захлебнуться ею в припадке блаженного и жестокого расточительства. Весь базар принимал участие в игре с десятилетней замарашкой, и то, что умещалось в детском кулачке, служило ей нищенской платой вперед за приближающуюся развязку.
Всю игру спутал приезжий огородник из Устерьмы. Там народ живет ладный, бабы ходят подобно башням под самые облака, а этот и вовсе был как рыжебородая сосна, в горелого цвета армяке; он все щурился по сторонам, не нападут ли, не отнимут ли его богатств. Впервые после долгого перерыва он вывозил на продажу дары устеремских песков, вспоенных его потом. Дивные с розовыми бочками репы обнимались с морковью, длинноликою и той смешной расцветки, что бывает у дьячков в предбаннике. Скуластая, лиловая на ссадинах свекловуха нежилась бок о бок с перезрелыми огурцами, похожими на деревенских, с белыми лысинками, старичков,- их уже впрожелть ударило ранним заморозком. И все это до одури, до сладкого головокружения припахивало укропцем, запахом деловитой сытости, прочного зажитка и уютного чужого жилья. Лизе до слез захотелось репки, и, добыв ее, она успела выскочить из тесного круга телег; но чернички, пришедшие побираться и целиком зависевшие от базарных благодетелей, задержали ее в узком проулке, куда она метнулась. Ее схватили и, дурно ощупывая, как добычу, привели назад. Базар сдвинулся, привстал на свои лари и кади и, уставясь на зрелище, замолк.
— А ну, пострадай, сердешная,— молвил хозяин покраденной репки.— У самого такие-то! — И, задрав грязные воровкины юбчонки, леностно, вполсилы — чтоб не убить, взмахнул кнутом.
Лиза не заплакала, не закричала, и не страх испытала она, а пристальное детское любопытство к людям, в грозном ребячестве своем принимавшим ее за взрослую. Рыжебородый не ударил. «У самого такие-то...» — раздумчиво, совсем в ином смысле, повторил мужик и, шлепнув ее рукой, шершавой от земляной коросты, лишь бы исполнить закон, подтолкнул вперед. Не выпуская репки из кулачка, Лиза упала ничком, рванулась, побежала, и всё кругом — эти рыбы, птицы, мертвые свиные головы — возбужденно засмеялось, взликовало, забило в ладоши, точно птаху выпустили на благовещенье.
— Ножечки-то у ей бо-осенькие! — умиленно сказала громадная торговка в мужском картузе, и видно было, что пощада доставила ей удовольствие выше всякой расправы.
Украденное осталось у девочки в руке; репку она съела, репка попалась горькая... Так, понемножку, Лиза приобретала опыт.
Школьное образование ее не превышело скудных знаний двух местных учительниц-сестер; одна из них была горбатенькая, и это качество избавило ее при взятии города белыми от лютых офицерских ласк. Судьба другой, искренне любившей девочку, была печальнее... Все остальные познания приобретались от матери. Жизнь этой женщины сложилась прихотливо и поучительно; она обучалась в институте, знала языки и музыку, переводила Жорж Санд, бывала за границей,— и все это затем, чтоб устроиться женой старательного и незадачливого тупицы, бросавшегося на всякие ухищрения и всегда с одинаковым неуспехом. Преждевременная, во всем разочаровавшаяся старуха, она когда-то мечтала о больших страстях, но самые условия существования постепенно подменяли хороший творческий гнев — мстительностью, любовь — безвольным восторженным обожанием, и отчаянье, приводящее сильного к мужеству,— скукой. Ее здоровье ухудшалось с каждым годом, и, не имея возможности охранить первые шаги своей дочки по жизни, она заранее стремилась приучить Лизу ко всем несчастьям и сомнительным радостям, какие могли обрушиться на нее впоследствии.
Властно держа за руку напуганную девочку, она делилась с нею всякими чрезвычайными случаями жизни и то тащила в анатомический театр, где в самых неожиданных сечениях и уродствах представали трупы человеческого сердца, то подводила к черным ямам прежней жизни, одно дыхание которых оскверняло. Все, на что падал ее взор, коробилось и чернело. Ее сомнительная мудрость была во всяком случае разностороннею. По ее словам, выходило, что жизнь есть медленное, милосердное убивание, что три темноты — юности, здоровья и радости — одинаково заслоняют свет истины, что мужчины изменяют от нечистоплотности, а женщины от величия и горя. Слишком рано оставляя дочку на милость людей, она сама впрыскивала в нее яд своих разочарований, чтоб не убило ее в самом начале зло. Ее уроки запоминались с тем большей легкостью, что подлая жизнь городка служила наглядным пособием к этим занятиям. И когда Лиза не понимала с первого раза, у матери хватало терпенья объяснять ей дважды и трижды.
Так, сидя на скамеечке у разбухших, почти слоновьих ног матери, одиннадцатилетняя Лиза по складам училась обхождению с людьми. Правда, мать сумела также сообщить ей свою поверхностную, бескостную культурность; дочь забирала без переоценки это пестрое, неравноценное наследство. Рассказы матери об исторических событиях приобретали странную увлекательность, когда хотя бы в малой степени сюжет их походил на ее собственную судьбу. Лиза навсегда сохранила в памяти, как первую травму детства, историю одной шотландской королевы, Марии Стюарт, также приспособленную к облику рассказчицы. В передаче матери, точно гляделась в зеркало, это была грустная повесть о красивой и несчастной женщине, обманутой приверженцами, оскорбленной любовниками и тоже вычеркнутой из памяти роднёю. Событие, почти ничтожное, романтически закрепило этот образ в воображении Лизы.