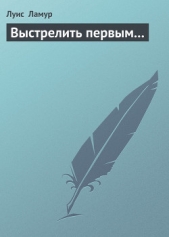Гермес

Гермес читать книгу онлайн
Свирепое послеполуденное солнце нещадно калило белый, тронутый черными нитями трещин камень высокой полуразрушенной ротонды, вздымавшей свой округлый купол к сочно-голубым небесам. Вокруг на многие мили простиралось белое каменное плато, только далеко впереди виднелись серые горы с клубящимися над ними пухлыми громадами облаков. Там посверкивали молнии, косо темнели струи дождя, бьющего по крутым уступам, доносилось слабое громыханье, — над горами бушевала непогода. Здесь же — лишь жаркое солнце, пустые развалины да белая слепящая тишь огромного плато, уходящего вдаль.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед ее глазами встают строки из ею же написанного трактата. Он назывался «О взаимовзвешенности плоти и духа», но, о боги, каким сухим и несодержательным было это название по сравнению с той бездной мудрости, которая была туда ею вложена. О, она была достаточно умна, чтобы написать книгу не хуже той, что создал Тот, символ мудрости. Не ее вина, что трактат этот сгорел при пожаре в библиотеке Александрии: к сожалению, свиток был недолговечен, и никто не знает о нем, никто, кроме тлену подлежащих, хотя и мудрых жрецов, не прочел его. Хайя, горе мне!
«Человек сотворяет все: дома, деревья, животных, воду, плоды, храмы, поля, плуги, драгоценные украшения, масло, лодки, пищу, —человек — дитя богов. Боги сотворили его, и человек создал их. Именно поэтому — как излишний груз топит ладью, как огонь очага превращает в пепел хижину, как созданное орудие губит своего хозяина, — так и человек сильнее богов, его создателей, и волен над ними».
Систр все звучит.
Пробудилась. Мое имя — Мириам Хойра. Я уже не знаю толком, сколько мне лет. Сеть, сотканную из лет, будто кто-то вытянул из моей памяти — вытянул пустой. Имя мое — Мириам Хойра. Я живу на Земле и никогда не бываю на Вихрящихся Мирах.
Она жила на Земле, всегда на одном и том же месте. Она не страдала патриархальщиной, не давала никаких обетов, просто так было заведено испокон веков. Она была красивой. Гибкая и грациозная, с тяжелой гривой черных, отливающих синевой волос, закинутой за плечи, она, Мириам Хойра, известная танцовщица и поэтесса, была желанна везде, но у нее никогда не бывало гастролей. Нередко в широкие круги просачивались слухи о какой-нибудь ее очередной эксцентрической выходке, которыми она славилась. Но она была талантлива, и в нее верили. Верили, что нескоро забудется полутемный зал, загадочная завеса экзотической музыки, колеблющаяся в воздухе, и резкие, даже ломаные, вывернутые движения ее смуглого, привычного к ним тела, трепещущего под воздействием мелодии и наркотического опьянения танца. Ее пристрастие к странным, полувоздушным нарядам, тяжелым золотым украшениям, к резким мазкам косметики на лице и особенно к кошкам вызывал в артистических кругах легкую насмешку, но не более. Ведь она была талантлива, и ей все прощалось. Знаменитые художники, композиторы, прочие люди искусства приезжали к ней в Луксор, и она встречала их в комнате, больше похожую на древнюю погребальную камеру, всю в сандале, золоте и пышных, тяжелых драпировках, окруженная своими любимыми кошками, которых было огромное множество, и они прыгали, мяукали, ходили вокруг нее с поднятыми палкою хвостами, ластились и терлись об ноги своими маленькими твердыми круглыми головами. Люди искусства восторгались, но она не замечала этого восторга, а если даже и замечала, то по ее виду ничего подобного определить было нельзя. Величественная, царственная, она держала себя так, будто гости — это ее рабы, и в любой момент можно будет их наказать или же облагодетельствовать.
Ее артистическим псевдонимом было имя Сехмет.
Считали простым капризом то, что она постоянно и почти безвыездно проживает в Луксоре. На ее танец приезжали посмотреть издалека, приезжали восхищаться — уже заранее, не видя танца воочию, они пребывали в устойчивом состоянии восторга, и ее исполнение только добавляло этой устойчивости. Может быть, даже лица ее конкретно не запоминали, может, не видели глаз, но магия танца искупала все, они сидели как зачарованные, смотрели, смотрели. Она была их владычицей, боготворилась ими, и воистину, она была богиней этого места. Но ей самой это не приносило удовлетворения.
Она не могла покинуть город. Когда-то, правда, она имела постоянное пристанище в древнем Бубастисе, но упадок города и гибель ее кошек от какой-то неизвестной эпидемии сделал свое дело: она ушла оттуда и вскоре поселилась в Луксоре.
Она полюбила этот город. Древний Луксор был великолепен, не в пример жалким строениям нового города. Тот однообразьем своих построек уходил в сторону от величественности исполненных зданий Луксора древнего, Луксора фараонов, Луксора Хатшепсут и Рамсеса. Она часто прогуливалась здесь, и древние камни нашептывали ей древние песни каменщиков, строивших грандиозные здания. Она приходила к Луксорскому храму и здесь стояла в великолепном проходе между двумя рядами огромных каменных колонн. Здешний храм Амона также привлекал ее внимание, и она часами всматривалась в лицо титанической статуи Рамсеса у его входа. Она проходила аллеей сфинксов, и сердце ее переполнялось изумлением, радостью и любовью к людям, возведшим к небесам такое чудо. Синие небеса молчали, и с приходом ночи замолкали также растрескавшиеся камни, мудрые от нескончаемости веков. Золотая колесница Ра погружалась в океан, и ночь нисходила на обильную богами страну пирамид.
С остальными она почти не виделась, ибо все ее время было поглощено любимыми ею танцами, и на сварливые усобицы его не хватало. Но она была в курсе того, что происходит. Доступным всем Детям Нуна чувством, в основе которого лежит всеведение, она ощущала и разлад, и распад, и ненависть и не одобряла, и ненавидела это. Такое времяпровождение — удел одного только Сета, я думаю, который и есть зачинщик всех бурь в мире, а остальных, в том числе и Монту и Тота, он лишь втягивает во вселенское столкновение мировых зол. Быть может, мнение такое было ошибкой, но она привыкла считаться со своим мнением.
Жилищем ее был один из здешних храмов, должным образом перестроенный и приспособленный под ее нужды. Проживание в таком особенном доме также относилось к числу прихотей ее изменчивой натуры и не осуждалось, чему она была очень рада. Дом-храм был удобен тем, что мог вместить неограниченное число гостей, — а ведь она славилась своими приемами, — ибо был велик размерами. А собственно ее покои, личный кабинет, спальни и прочие помещения были устроены позади храма, переделанные из многочисленных камер для хранения ритуальных приношений и жилищ жрецов. Цветные изображения, когда-то сплошь покрывавшие стены, от времени стерлись, и их пришлось освежить и подновить, резьбу колонн — углубить и привести в порядок, и храм, превратившийся в дом, для чего, собственно, и предназначаются все храмы, в которых живут божества, вновь засиял во всем своем великолепии.
Мало кто знал, чем занимается улыбчивая и доступная Мириам в свое свободное время, не занятое приемами и разучиванием новых танцев. Она всегда была на виду — или же так казалось. Оказывалось, однако, что бывали и такие дни, когда ее не донимали настырные поклонники. Тогда Мириам Хойра писала свою книгу. Нет, она не восстанавливала трактат «О взаимовзвешенности». Это было отдельное, самостоятельное произведение, куда, конечно, вошли и ее мысли из предыдущего труда, как основные идеи, не дающие покоя и тревожащие автора, встречаются во всех его произведениях. Трактат назывался «О конце» и был уже близок к завершению.
Так жила танцовщица Мириам Хойра, существо абсолютно аполитичное и легкое, как птичье перо, интересующееся только своими танцами, писанием серьезного философского трактата и виртуозной игрой на систре. Память не беспокоила ее, а она решила не беспокоить память, — это было бы бесполезным и никчемным занятием. Оно только встревожило б душевные раны, уже затянувшиеся устраивавшими ее твердыми рубцами. Воспоминания о прошлом у нее, как и у других ее соплеменников, вызывали только боль. А они не любили боли самозабвенной и жертвенной, полагая такую разновидность боли явлением крестной муки, а значит, омерзительным извращением.
Уже давно не выдавалось у нее свободного дня, когда можно было бы вздохнуть и с легкой душою приняться за работу. Колоброженье мысли в ее голове тем временем стало невыносимым, то и дело мозг выдавал готовые, уже отшлифованные фразы, хоть садись и записывай, некоторые идеи достигали точности и сжатости афоризмов, поминутно выскакивали полузабытые слова и речения. Все это нужно было немедля запечатлеть на бумаге. Новейших устройств для записывания мыслей она не любила, предпочитая по старинке бумагу и перо.