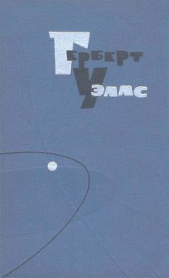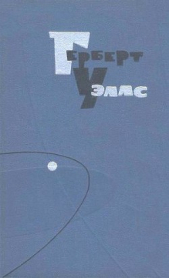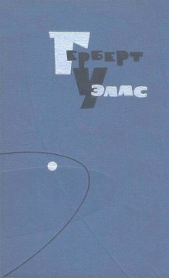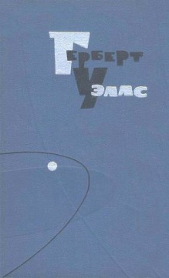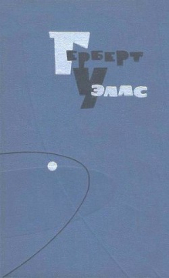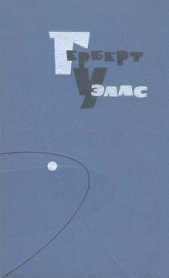Собрание сочинений в 15 томах. Том 6

Собрание сочинений в 15 томах. Том 6 читать книгу онлайн
Г.Уэллс. Собрание сочинений в 15 томах Том 6
Любовь и мистер Люишем (переводчик: Н. Емельяникова)
Рассказы:
Филмер (переводчик: И. Воскресенский)
Джимми — пучеглазый бог (переводчик: И. Воскресенский)
Волшебная лавка (переводчик: Корней Чуковский)
Правда о Пайкрафте (переводчик: Е. Фролов)
Мистер Скелмерсдейл в стране фей (переводчик: Н. Явно)
Новейший ускоритель (переводчик: Наталия Волжина)
Каникулы мистера Ледбеттера (переводчик: Александра Ильф)
Неопытное привидение (переводчик: И. Бернштейн)
Клад мистера Бришера (переводчик: Д. Горфинкель)
Видение Страшного суда (переводчик: М. Михаловская)
Дверь в стене (переводчик: М. Михаловская)
Страна Слепых (переводчик: Надежда Вольпин)
Царство муравьев (переводчик: Б. Каминская)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На следующий день все оставшееся после «дежурства» время Люишем использовал на составление письма, которое нужно было размножить в нескольких экземплярах и разослать в различные агентства по найму учителей. В письме он коротко и выразительно излагал свою биографию, но зато был весьма многословен в описании собственной организованности и методов преподавания. В конце прилагался длинный и цветистый перечень всех его аттестатов и наград, начиная с полученного в восьмилетнем возрасте похвального листа, за примерное поведение. Для переписки всех этих документов потребовалось немало времени, но Надежда окрыляла его. После длительного размышления над своим расписанием он выделил днем один час для «корреспонденции».
Он обнаружил, что несколько отстал в своих занятиях по математике и классическим языкам, а контрольная работа, отправленная его заочному наставнику в те тревожные дни, которые последовали за встречей с Боновером на аллее, вернулась с малоутешительной оценкой: «Выполнено неудовлетворительно». Ничего подобного с ним прежде не случалось, поэтому он пришел в такое раздражение, что некоторое время даже подумывал, не ответить ли наставнику язвительным письмом. А потом наступили пасхальные каникулы, и ему пришлось ехать домой и объявить матери, разумеется, без лишних подробностей, что он покидает Хортли.
— Но ведь у тебя там так хорошо все складывалось! — всплеснула руками его мать.
Одно утешало добрую старушку: сын перестал носить очки — он даже забыл привезти их с собой, — и ее тайные страхи, что он «скрывает» от нее какое-то серьезное заболевание глаз, рассеялись.
Иногда у него бывали минуты горького раскаяния в той безрассудной прогулке. Такое настроение испытал он вскоре после каникул, когда ему пришлось сесть и пересмотреть сроки, намеченные в «Программе», и он впервые с ясностью осознал, чем, в сущности, кончилась для него эта первая схватка с теми загадочными и могучими силами, что пробуждаются с наступлением весны. Его мечты об успехе и славе казались ему вполне реальными, они были дороги его сердцу, и вот теперь, когда он понял, что долгожданная дверь университета, открывающая путь ко всему великому, пока еще для него затворена, он вдруг ощутил нечто похожее на физическую боль в груди.
В самый разгар работы он вскочил и с пером в руках стал шагать по комнате.
— Какой я был дурак! — вскричал он. — Какой я был дурак!
Он швырнул перо на пол и подбежал к стене, где красовался весьма неумелый рисунок девичьей головки — живой свидетель его порабощения. Он сорвал рисунок и разбросал клочья по полу…
— Дурак!
И сразу ему стало легче: он дал выход своему чувству. Секунду он взирал на произведенное им разрушение, а затем, что-то бормоча о «глупых сантиментах», снова уселся пересматривать свое расписание.
Такое настроение у него бывало. Но редко. Вообще же письма с ее адресом он ждал с куда большим нетерпением, чем ответа на те многочисленные прошения, писание которых оттеснило теперь на задний план Горация и высшую математику (как у него именовалась стереометрия). На обдумывание письма к Этель у него уходило еще больше времени, чем потребовалось когда-то на составление достопримечательного перечня его академических достоинств.
Правда, его прошения были документами необыкновенными; каждое из них было писано новым пером и почерком — по крайней мере на первой странице, — превосходившим даже те образцы каллиграфии, которыми он блистал обычно. Но дни шли, а письмо, которое он надеялся получить, так и не приходило.
Настроение его осложнялось еще и тем, что, несмотря на упорное молчание, причина его отставки в разительно короткий срок стала известна «всему Хортли». Он, как рассказывали, оказался человеком «фривольным», а поведение Этель местные дамы порицали, если можно так выразиться, с самодовольным торжеством. Смазливое личико так часто бывает ловушкой. А один мальчишка — за это ему как следует надрали уши, — когда Люишем проходил мимо, громко крикнул: «Этель!» Помощник приходского священника, из породы людей бледных, нервных, с распухшими суставами, теперь, встречаясь с Люишемом, старался не замечать его. Миссис Боновер не упустила случая сказать ему, что он «совсем еще мальчик», а миссис Фробишер, столкнувшись с ним на улице, так грозно засопела, что он вздрогнул от неожиданности.
Это всеобщее осуждение порой приводило его в уныние, но иногда, наоборот, оно даже вселяло в него бодрость, и не раз он объявлял Данкерли, что ему это все совершенно нипочем. А иногда он убеждал себя, что терпит все это ради Нее. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось.
Он начал также понимать, как мало нуждается мир в услугах девятнадцатилетнего юноши, — он считал себя девятнадцатилетним, хотя в действительности ему было восемнадцать лет и несколько месяцев, — несмотря на то, что вдобавок к своей молодости, силе и энергии он является обладателем наград за примерное поведение, за общее развитие и за успехи в арифметике, а также отличных аттестатов на бумаге с королевским гербом за подписью известного инженера, подтверждающих его познания в черчении, мореходной астрономии, физиологии животных, физиографии, неорганической химии и сооружении зданий. Сначала ему казалось, что директора школ будут цепляться за возможность воспользоваться его талантами, но выяснилось, что цепляться суждено ему. В его письмах с предложением услуг появилась теперь нотка настойчивости, но настойчивость ему не помогала. А письма эти становились все длиннее и длиннее, они разрослись до четырех страниц — на целое пенни бумаги. «Уверяю вас, — писал он, — что во мне вы найдете верного и преданного помощника». И так далее в таком духе. Данкерли указал ему на то, что аттестация, выданная Боновером, явно обходит вопрос о нравственности и дисциплине, но Боновер отказался что-либо изменить. Он, разумеется, был готов сделать для Люишема все, что в его силах, несмотря на столь неделикатное к нему отношение молодого человека, но, увы, его совесть…
Раза два-три Люишем намеренно исказил текст аттестации, но и это ничего не дало. И Южно-Кенсингтонская школа молчала, хотя прошла уже половина мая. Будущее рисовалось Люишему в весьма мрачных красках.
И вот в самый разгар сомнений и разочарований пришло письмо от нее. Оно было напечатано на машинке на тонкой бумаге. «Дорогой», — писала она, и это обращение показалось ему самым ласковым и самым чудесным из всех обращений на свете, хотя в действительности-то она просто забыла, как его зовут, а потом забыла, что оставила место, куда хотела вставить его имя.
«Дорогой!
Я не могла написать раньше, потому что дома мне теперь негде написать письмо, так как миссис Фробишер рассказала моей матери о вас разные глупости. Моя мать ужасно удивила меня — я никак не ожидала этого от нее. Она ничего мне не сказала. Но об этом я напишу вам в следующий раз. Я слишком сердита, чтобы писать об этом сейчас. Даже теперь вы не можете мне ответить, потому что сюда нельзя посылать писем. Это совершенно невозможно. Но я вспоминаю вас, дорогой (слово «дорогой» было стерто и снова написано), и нашу чудесную прогулку и хочу сказать вам об этом, даже если это письмо окажется последним. Я сейчас очень занята. Работа у меня довольно сложная, и, боюсь, я немного бестолкова. Трудно, не правда ли, с интересом относиться к чему-либо только оттого, что это дает средства на жизнь? Вероятно, порой вы испытываете то же самое у себя в школе? Но уж, видно, все люди должны заниматься не тем, что им по душе. Не знаю, когда я вновь окажусь в Хортли и окажусь ли вообще, но вы, наверное, сами приедете в Лондон. Миссис Фробишер наговорила самые ужасные вещи. Было бы чудесно, если бы вы приехали в Лондон, потому что тогда мы, возможно, сумели бы повидаться. В Челси есть большая школа для мальчиков, и каждое утро, когда я прохожу мимо нее, я думаю о том, как хорошо было бы, если бы вы там работали. Тогда вы выходили бы мне навстречу в своей шапочке и мантии. А вдруг в один прекрасный день я увижу вас там!»
Вот таким было это письмо, содержавшее в себе удивительно мало сведений и неожиданно обрывавшееся дописанными карандашом словами: «Прощайте, дорогой. Прощайте, дорогой». А внизу: «Вспоминайте обо мне иногда».