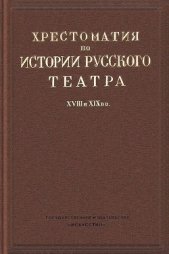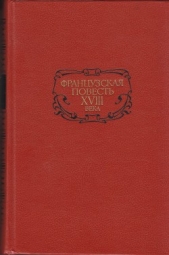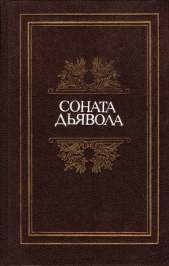INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков

INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков читать книгу онлайн
Обширный сборник страшной французской прозы дает довольно широкую панораму готической литературы. Его открывает неоднократно переводившийся и издававшийся Влюбленный дьявол Жака Казота, того самого, который знаменит своим пророчеством об ужасах Французской революции, а завершают две новеллы Ги де Мопассана. Среди авторов — как писатели, хорошо известные в России: Борель, Готье, Жерар де Нерваль, так и совсем неизвестные. Многие рассказы публикуются впервые. Хотелось бы обратить внимание читателей на два ранних произведения Бальзака, которые обычно теряются за его монументальными эпопеями.
Составитель книги и автор вступительной статьи — С. Зенкин, один из крупнейших на сегодняшний день знатоков французской литературы в России; и это может послужить гарантией качества издания.
Сборник включает лучшие готические произведения французской прозы прошлого века. Среди авторов: Ж. Казот, С. А. Берту, Ш. Нодье, П. Борель, Ш. Рабу, О. де Бальзак, Ж. де Нерваль, Т. Готье, П. Мериме, Ж. Барбе д’Оревильи, Ж. Буше де Перт, К. Виньон, О. Вилье де Лиль-Адан, Г. де Мопассан. Большую часть сборника составляют тексты, впервые переведенные на русский язык.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы родственник покойника? — спросил причетник.
— Наследник, — отвечал Кастанье.
— Пожертвуйте на причт! — обратился к нему привратник.
— Нет, — отвечал кассир, не желавший давать церкви дьяволовы деньги.
— На бедных!
— Нет.
— На обновление храма!
— Нет.
— На часовню Девы Марии!
— Нет.
— На семинарию!
— Нет.
Кастанье отошел в сторону, чтобы не привлекать раздраженных взоров служителей церкви.
«Почему, — подумал он, оглядывая церковь Св. Сульпиция, — почему люди воздвигли эти гигантские соборы, встречавшиеся мне во всех странах? Чувство, разделяемое массами во все времена, должно быть на чем-то основано».
«Для тебя Бог — „что-то?“ — кричало ему сознание. — Бог! Бог! Бог!»
Отозвавшись внутри, слово это угнетало его, но ощущение страха смягчилось далекими аккордами сладостной музыки, которую он неявственно слышал и прежде. Эти гармонические звуки он принял за церковное пение и окинул взглядом портал. Но, прислушавшись внимательнее, он заметил, что звуки доносились к нему со всех сторон; он выглянул на площадь — музыкантов там не оказалось.
Эта мелодия несла его душе поэзию лазури и дальние лучи надежды, но вместе с тем она усиливала и угрызения совести, мучившие проклятого грешника, который побрел по парижским улицам, как бредет человек, подавленный горем. Он смотрел на все невидящими глазами, он шел, как праздношатающийся; беспричинно останавливался, сам с собой разговаривал, не заботился о том, как бы его не ударило доской, не зацепило колесом экипажа. Раскаяние неприметно погружало его в чувство благодати, заставляющее сердца человеческие трепетать от нежности и страха. В его лице, как и у Мельмота, вскоре появилось нечто величественное и вместе с тем какая-то рассеянность; холодное выражение печали, как у человека, предавшегося отчаянию, и беспокойный трепет, возбуждаемый надеждой; но более всего его охватывало отвращение ко всем благам этого ничтожного мира. В глубине его глаз, пугавших своим блеском, таилась смиренная молитва. Он страдал из-за своей власти. От страстных волнений его души согбенным сделалось его тело — так порывистый ветер сгибает высокие ели. Подобно своему предшественнику, он не мог расстаться с жизнью, ибо не хотел умереть подвластным аду. Муки его становились невыносимы. Наконец однажды утром он подумал: ведь Мельмот, достигший теперь блаженства, предложил ему некогда обмен, и он на это согласился; вероятно, и другие поступили бы, как он; в эпоху рокового равнодушия к религии, провозглашенного теми, кто унаследовал красноречие Отцов Церкви, нетрудно будет ему встретить человека, который подчинится условиям договора, чтобы воспользоваться его выгодами.
«Есть такое место, где котируется королевская власть, где прикидывают на весах целые нации, где выносится приговор политическим системам, где правительства расцениваются на пятифранковые монеты, где идеи и верования переведены на цифры, где все дисконтируется, где сам Бог берет взаймы и в качестве гарантии оставляет свои прибыли от душ человеческих, ибо у Папы Римского имеется там текущий счет. Если где покупать душу, то, конечно, там».
Радостно Кастанье направился к бирже, думая, что приторгует себе душу, как заключают сделку на государственные процентные бумаги. Всякий обыватель побоялся бы, не подымут ли его на смех, но Кастанье знал по опыту, что человек отчаявшийся все принимает всерьез. Как приговоренный к смертной казни выслушает сумасшедшего, когда тот будет ему говорить, что, произнеся бессмысленные слова, можно улететь сквозь замочную скважину, — так и страдающий человек становится легковерным и отвергает какой-нибудь замысел только в случае полной его неудачи, подобно пловцу, уносимому течением, который отпускает веточку прибрежного куста, если она оторвется. К четырем часам дня Кастанье появился среди людей, которые по окончании котировки государственных бумаг собираются в группы, заключая сделки на частные бумаги и производя операции чисто коммерческие. Дельцы его знали, и он, прикинувшись, что кого-то разыскивает, мог подслушивать, не говорят ли где о людях, запутавшихся в делах.
— Ни за что, милый мой! Бумагами Клапарона и компании не занимаюсь. Банковский рассыльный унес сегодня обратно все их векселя, — бесцеремонно сказал кому-то толстяк-банкир. — Если у тебя они есть, забудь о них.
Упомянутый Клапарон вел во дворе оживленную беседу с господином, про которого было известно, что он учитывает векселя из ростовщических процентов. Тотчас же Кастанье направился к Клапарону, биржевику, известному тем, что он ставил крупные куши, рискуя или разориться, или разбогатеть.
Когда Кастанье подошел к Клапарону, с ним только что расстался ростовщик, и у спекулянта вырвался жест отчаяния.
— Итак, Клапарон, вам сегодня вносить в банк сто тысяч франков, а теперь уже четыре часа: значит, времени не хватит даже на то, чтобы подстроить банкротство, — сказал ему Кастанье.
— Милостивый государь!
— Потише, — продолжал кассир. — А что, если я вам предложу одно дельце, которое даст вам потребную сумму?..
— Оно не даст мне покрыть мои долги — ведь не бывает таких дел, которые можно состряпать сразу.
— А я знаю дельце, которое покроет их сию же минуту, — ответил Кастанье, — только оно потребует от вас…
— Чего?
— Продажи вашего места в раю. Чем это дело хуже других? Все мы — акционеры великого предприятия вечности.
— Известно ли вам, что я могу дать вам пощечину? — сказал Клапарон, рассердившись. — Позволительно ли так глупо шутить с человеком, когда он в беде!
— Говорю вполне серьезно, — отвечал Кастанье, вынимая из кармана пачку банковских билетов.
— Имейте в виду, — сказал Клапарон, — я не продам свою душу дьяволу за гроши. Мне необходимо пятьсот тысяч франков, чтобы…
— Кто же станет скаредничать? — прервал его Кастанье. — Вы получите столько золота, что оно не вместится в подвалы банка.
Он протянул огромную пачку билетов, убедительно подействовавшую на спекулянта.
— Ладно! — сказал Клапарон. — Но как это устроить?
— Пойдемте вон туда, там никого нет, — ответил Кастанье, указывая на уголок двора.
Клапарон и его соблазнитель обменялись несколькими фразами, уткнувшись в стену. Никто из наблюдавших за ними не догадался о теме их секретной беседы, хотя все были живо заинтригованы странной жестикуляцией обеих договаривавшихся сторон. Когда Кастанье вернулся, гул изумления вырвался у биржевиков. Как на французских званых вечерах, где малейшее событие привлекает общее внимание, все обратили взор на двух людей, вызвавших этот гул, и не без ужаса увидали происшедшую в них перемену. На бирже все прохаживаются и беседуют, каждый участник этого сборища всем знаком, за каждым наблюдают — ведь биржа — подобие стола, за которым играют в бульот, причем люди опытные всегда угадают по физиономии человека, каковы его игра и состояние кассы. Итак, все обратили внимание на лицо Клапарона и лицо Кастанье. Последний, подобно ирландцу, был мужчиной жилистым и крепким, глаза его сверкали, цвет лица отличался яркостью. Всякий дивился его лицу, величественно ужасающему, спрашивая себя, откуда оно взялось у добродушного Кастанье; но, лишившись власти, Кастанье сразу увял, покрылся морщинами, постарел, одряхлел. Когда он уводил Клапарона, он похож был на горячечного больного или же наркомана, который довел себя опиумом до экстаза; а возвращался он осунувшийся, точно после приступа горячки, когда больной готов испустить дух, или словно в состоянии ужасной прострации от злоупотребления наркотиками. Адское одушевление, позволявшее ему переносить разгульную жизнь, исчезло: тело, лишившись его, оказалось истощенным, без помощи и опоры против угрызений совести и тяжести истинного раскаяния. Напротив, когда появился Клапарон, тревоги которого ни для кого не составляли тайны, его глаза сверкали, а на лице была запечатлена гордость Люцифера. Банкротство перешло с одного лица на другое.
— Подыхайте с миром, старина, — обратился Клапарон к Кастанье.