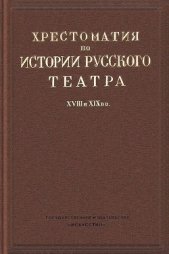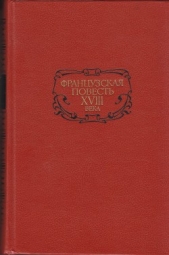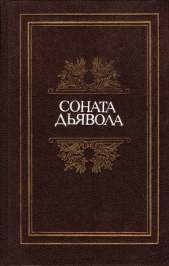INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков

INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков читать книгу онлайн
Обширный сборник страшной французской прозы дает довольно широкую панораму готической литературы. Его открывает неоднократно переводившийся и издававшийся Влюбленный дьявол Жака Казота, того самого, который знаменит своим пророчеством об ужасах Французской революции, а завершают две новеллы Ги де Мопассана. Среди авторов — как писатели, хорошо известные в России: Борель, Готье, Жерар де Нерваль, так и совсем неизвестные. Многие рассказы публикуются впервые. Хотелось бы обратить внимание читателей на два ранних произведения Бальзака, которые обычно теряются за его монументальными эпопеями.
Составитель книги и автор вступительной статьи — С. Зенкин, один из крупнейших на сегодняшний день знатоков французской литературы в России; и это может послужить гарантией качества издания.
Сборник включает лучшие готические произведения французской прозы прошлого века. Среди авторов: Ж. Казот, С. А. Берту, Ш. Нодье, П. Борель, Ш. Рабу, О. де Бальзак, Ж. де Нерваль, Т. Готье, П. Мериме, Ж. Барбе д’Оревильи, Ж. Буше де Перт, К. Виньон, О. Вилье де Лиль-Адан, Г. де Мопассан. Большую часть сборника составляют тексты, впервые переведенные на русский язык.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Само собой разумеется, что совпадение интересов, о котором мы только что говорили, укрепило положение тайных обществ, впервые в старой европейской системе ставших своего рода законною властью, но еще тем не менее не помышлявших о смещении существующих законных властей ради попытки установить, в свою очередь, новую тиранию. Ею они в те времена не пользовались; тем сильнее в этих несчастных организациях, обладавших всеми пороками своей матери — общества, от которого они отделились, давало о себе знать столкновение эгоизмов, честолюбий и пустого тщеславия.
Не прошло и двух месяцев, как первоначально единая организация верховной «vendita» {86} и всех других, от нее зависимых, раскололась на четыре или пять фракций. Одна из них толковала условия договора до того широко, что предполагала воспользоваться победой для полного раскрепощения простого народа и для установления той пагубной демократии, о которой Венеция сохранила столь кровавые воспоминания. {87} Другая, в решительный час оказавшаяся наиболее многочисленной, так как сумела посулами всевозможных выгод привлечь на свою сторону людей частью безликих, а частью порочных, вступила в тайное соглашение с Австрией, предав ей столь героически оберегавшиеся доселе свободы. О некоторых «vendita» шла молва, будто они поддерживают подозрительные сношения с правительством Наполеона и подготавливают для себя, таким образом, почву на случай возможного поражения.
Самая малочисленная, но, бесспорно, самая деятельная и честная группа обещала безоговорочно и искренне поддержать заговорщиков лишь при том непременном условии, что Венецианскому государству будет предоставлена независимость и в нем будет восстановлен старинный республиканский образ правления. Вне города она опиралась на могущественное объединение горцев, а вождем ее был один из тех решительных и дальновидных людей с сильной волею, одно имя которых стоит порой целой партии. Этим вождем был Марио Ченчи, по прозванию Дож; именно к этой группе и склонялись мои симпатии.
Марио Ченчи происходил из той несчастной римской семьи, {88} которая запятнала себя ужасающим преступлением, но тем не менее не исчерпала для себя источников сострадания и доставила истории единственный пример казни отцеубийц, орошенной слезами церкви, правосудия и народа. Младший брат Беатриче, навсегда изгнанный из церковных владений, удалился в старинный замок на берегу Тальяменте, где, как сообщает предание, в преклонном возрасте был убит молнией. Мстительная судьба из поколения в поколение заносила свой меч над всеми его потомками, и их последовательно изложенная история составила бы многоактную трагедию наподобие трагедии Пелопидов. {89} Последний из потомков его умер на эшафоте, воздвигнутом итальянскою революцией, {90} и на всей земле единственным наследником этой крови, осужденной законами человеческими и самим небом, оставался лишь Марио Ченчи.
Юность Марио, отмеченная столь мрачными предзнаменованиями и лишенная всякой опоры в обществе, протекала мятежно и бурно. Никакому нежному чувству не довелось, как видно, умерить распущенность его нравов, ибо одна мысль о том, что Марио может их полюбить, внушала венецианкам, говорившим о нем не иначе, как с содроганием, неописуемый ужас. Он никогда не появлялся в публичных местах. И когда он проходил по какой-нибудь из узких улочек города, один или в обществе немногих друзей, таких же таинственных, как он сам, даже самые бесстрашные люди уходили прочь с его пути, как бы стремясь укрыться от действия его взгляда. Было ли это свойством его столь исключительного характера или следствием некоего бесконечно тяжелого впечатления, которое он производил помимо своего ведома и желания, какого-то внушаемого им безотчетного страха, но его боялись без всякой примеси ненависти, как боятся, например, льва. От этого чувства недалеко до безграничного обожания, нередко переходящего в культ. Никто не мог бы упрекнуть его в несправедливых делах или преднамеренной жестокости; напротив, рассказывали о множестве великодушных поступков, совершенных им, однако, холодно и безучастно. Не раз спасал он тонувших детей, но никого из них ни разу не приласкал.
Исчерпав свое состояние, растраченное с безудержной расточительностью на одинокие и причудливые забавы, Марио в возрасте двадцати лет — а в описываемое время ему было уже двадцать восемь — оказался вынужден удалиться в свой грустный замок на материке, куда за ним последовал только слуга-албанец, не пожелавший покинуть его в беде. С того времени как появились некоторые виды или, по крайней мере, надежды на близкие перемены в делах Италии, Марио стал время от времени посещать Венецию. Было замечено, что иногда он проводил в этом городе по два месяца сряду, но никто не знал, где он здесь останавливается.
Хотя Марио Ченчи был подлинным вождем «vendita», причем в его отсутствие эта власть даже усиливалась, я ни разу не видел его ни на собраниях «vendita», ни где-либо в ином месте. Все пересказанные мною подробности его биографии я знал из народных толков, а народ в Венеции гораздо общительнее, чем в других странах. И в самом деле, едва Марио Ченчи высаживался на берег где-нибудь близ Пьяцетты, как толпа, влюбленная во все необычное и охотно отдающая свою благосклонность тому, кто пугает ее воображение, узнавала об этом в мгновение ока. И тогда в кучках людей, собиравшихся на площади Святого Марка или в порту, возникали странные разговоры, почти столь же необычайные, как и порождавший их человек.
— Что делает здесь, — говорил первый, — этот демон несчастья, всегда приносящий с собой одни лишь бедствия и пристающий к нашему берегу лишь в непогоду? Предвещает ли он разразившуюся на Востоке чуму или новую войну на море? Я думал, что он погиб во время последней грозы, — говорили, что молния испепелила вместе с ним и его башню; ведь уже добрые три столетия ни одному Ченчи не удавалось улизнуть от бичей небесных, кинжала или эшафота.
— И впрямь, — подхватывал тотчас второй, — меня бы это нисколько не опечалило, хотя, когда мог, он делал мне больше хорошего, чем дурного. Но так все же было бы гораздо спокойнее, и к тому же этого все равно так или иначе не миновать; таков уж его горестный жребий. Да воздаст ему Господь милосердием в ином мире!
— Как! — восклицал третий, который, казалось, был осведомленнее остальных и вокруг которого кружок сжимался теснее, чтобы лучше слышать его. — Неужели вам все еще неизвестно, что, собственно, приводит его сюда? Еще совсем ребенком благородный Марио отдавался думам лишь об одном — о возрождении нашей древней республики с ее независимостью и богатой торговлею, с ее кораблями, повелителями морей и мира, с ее благочестием, попранным равнодушными к вере, с ее святым Марком, ниспосылающим ей благоденствие! И так как в мизинце Марио Ченчи больше мужества и таланта, нежели во всем народе Италии, он один, и никто другой, сумеет избавить нас от немцев и от французов и будет провозглашен нашим дожем. {91} Вы хорошо знаете, я его не люблю, и я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь питал к нему добрые чувства, но я призываю в свидетели самого Господа Бога, что Марио Ченчи станет дожем Венеции и вернет ей былое процветание!
Эти речи повторялись чуть ли не ежедневно, и толпа, державшаяся от Марио на почтительном расстоянии из боязни возбудить его гнев, всякий его приезд в Венецию встречала громкими криками: «Да здравствует Марио Ченчи! Да здравствует дож Венеции!» Власти, зная об этом, все же не проявляли в таких случаях особого беспокойства, ибо за Марио закрепилась слава желчного человеконенавистника, презирающего мнение толпы. Возможно, что такое суждение о нем было вполне справедливо.