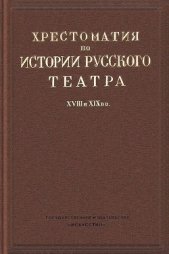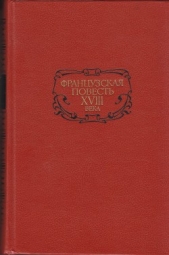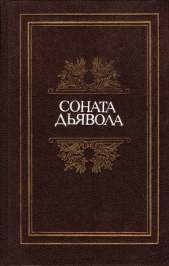INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков

INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков читать книгу онлайн
Обширный сборник страшной французской прозы дает довольно широкую панораму готической литературы. Его открывает неоднократно переводившийся и издававшийся Влюбленный дьявол Жака Казота, того самого, который знаменит своим пророчеством об ужасах Французской революции, а завершают две новеллы Ги де Мопассана. Среди авторов — как писатели, хорошо известные в России: Борель, Готье, Жерар де Нерваль, так и совсем неизвестные. Многие рассказы публикуются впервые. Хотелось бы обратить внимание читателей на два ранних произведения Бальзака, которые обычно теряются за его монументальными эпопеями.
Составитель книги и автор вступительной статьи — С. Зенкин, один из крупнейших на сегодняшний день знатоков французской литературы в России; и это может послужить гарантией качества издания.
Сборник включает лучшие готические произведения французской прозы прошлого века. Среди авторов: Ж. Казот, С. А. Берту, Ш. Нодье, П. Борель, Ш. Рабу, О. де Бальзак, Ж. де Нерваль, Т. Готье, П. Мериме, Ж. Барбе д’Оревильи, Ж. Буше де Перт, К. Виньон, О. Вилье де Лиль-Адан, Г. де Мопассан. Большую часть сборника составляют тексты, впервые переведенные на русский язык.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так сражался я с объявшим меня ужасом и пытался исторгнуть из своей груди проклятие, которое побудило бы богов к отмщению, пока не услышал голос Мерои: «Несчастный! дорого заплатишь ты за дерзкое любопытство!.. Ты осмелился презреть чары сна… Ты говоришь, кричишь, видишь… Что же! Отныне ты будешь говорить лишь жалобами, ты будешь кричать, лишь взывая к состраданию глухих, ты будешь видеть лишь сцены ужаса, леденящие душу…» Произнеся эти слова голосом более тонким и визгливым, чем вопль смертельно раненной, но все еще грозной гиены, она снимает с пальца бирюзовое кольцо, переливающееся разными цветами, подобно радуге, что опоясывает небосвод, или волне, что несома к берегу прибоем и сверкает отблесками восходящего солнца. Она нажимает пальцем на тайную пружину, посредством невидимого механизма приподнимающую волшебный камень, и достает оттуда золотой футляр, скрывающий в себе бесцветное и бесформенное чудовище, которое рвется наружу, вопит, устремляется вперед и припадает к груди колдуньи. «Вот и ты, любезный Смарра, — говорит она, — возлюбленный мой, единственный предмет моих любовных помыслов, ты, кого гнев небесный избрал из драгоценнейших своих сокровищ, дабы вселять отчаяние в детей человеческих. Ступай, призрак то льстивый, то лживый, то ужасный, ступай терзать жертву, кою предаю я в твою власть; обрушь на нее пытки столь же разнообразные, что и ужасы ада, тебя породившего, столь же неотвратимые и жестокие, что и моя ярость. Ступай лакомиться тревогами трепетного сердца, считать судорожные биения пульса, который то убыстряется, то прерывается… ступай созерцать горестную агонию, которую ты будешь отдалять лишь для того, чтобы доставить себе больше радости… В награду, верный раб любви, получишь ты позволение в час, когда сны покидают нас, вновь опуститься на благоуханное ложе своей повелительницы и осыпать ласками царицу ночных ужасов…» Слова сказаны, и урод срывается с ее пылающей ладони, подобно круглому диску, вылетающему из руки дискобола; он кружится в воздухе так же стремительно, как те огненные шары, которыми забрасывают вражеские корабли, раскрывает диковинно изрезанные крылья, взмывает вверх, падает вниз, раздувается, съеживается и, вновь сделавшись мерзким карликом, сияющим от радости, вонзает мне в сердце тонкие стальные когти, с коварством пиявки пьет мою кровь, разбухает, поднимает огромную голову и хохочет. Напрасно взор мой, застывший от ужаса, жаждет прилепиться хоть к чему-нибудь успокоительному; тысяча ночных демонов служат свитой жуткому исчадью бирюзового перстня: скрюченные женщины с пьяными глазами; красные и фиолетовые змеи, исторгающие пламя, ящерицы с человечьим лицом, поднимающиеся из луж грязи и крови; головы, только что срубленные солдатской саблей, но глядящие на меня живыми глазами и убегающие вприпрыжку на лягушачьих лапках…
С этой роковой ночи, о Луций, спокойный сон мне заказан. Ни на благоуханном девичьем ложе, открытом лишь грезам любви, ни в неверной палатке, всякий вечер доставляющей страннику укрытие под иными небесами, ни даже в священном храме не найти мне спасения от ночных демонов. Лишь только, устав бороться с гибельным сном, я смежаю веки, как обступают меня те же чудища, что однажды вырвались на моих глазах из волшебного перстня Мерои. Они скачут вокруг меня, оглушают мой слух своими воплями, вселяют ужас в мою душу своими радостями и оскверняют мои дрожащие губы своими ласками — ласками гарпий. {67} Впереди всех парит Мероя, и из копны ее волос вырываются бледные всполохи. Да вот и вчера… она стала куда выше ростом… формы и черты ее остались прежними, но под пленительной внешностью, как сквозь легкую, прозрачную газовую ткань, с ужасом различал я опаленную солнцем кожу колдуньи и ее желтые, словно присыпанные серой члены; глаза ее, остановившиеся и лишенные выражения, налились кровью, кровавые слезы текли по впалым щекам, а простертая вперед рука оставляла в воздухе кровавый след…
«Ступай, — сказала она, поманив меня пальцем, прикосновение которого грозило мне смертью, — ступай и взгляни на царство, какое я дарю своему супругу, ибо я хочу, чтобы ты познал все владения ужаса и отчаяния…» Говоря это, она летела передо мной, то припадая к земле, то взмывая над нею, подобно огоньку пламени, теплящемуся на конце готового погаснуть факела. О, какую муку причиняла стремительно одолеваемая нами дорога всем моим чувствам! Как не терпелось, кажется, и самой колдунье поскорее добраться до цели! Вообрази себе мрачное подземелье, укрывающее останки всех невинных жертв, замученных колдуньей, вообрази, что среди этих искалеченных останков не было ни единого клочка плоти, который не сохранил бы способности стенать и плакать!.. Вообрази себе движущиеся, живые стены, смыкающиеся перед тобою и постепенно заключающие твои члены в тесное, ледяное узилище… Твоя сдавливаемая грудь вздымается, трепещет, рвется к свежему воздуху сквозь пыльные развалины, факельный чад, катакомбную сырость, ядовитое дыхание мертвецов… а демоны ночи все, как один, кричат, свистят, вопят или рычат тебе в уши, вселяя ужас: «Еще мгновение — и ты задохнешься!»
И, покуда я двигался вперед, насекомое в тысячу раз более крохотное, чем то, которое покушается бессильными устами на хрупкий лепесток розы, жалкий атом, тратящий не меньше тысячи лет, чтобы продвинуться хоть на шаг по небесной тверди, в тысячу раз более неприступной, чем алмаз… насекомое это тоже двигалось, двигалось вперед, и в конце концов след его ленивых ног рассек до самой оси нетленную небесную сферу.
Столь стремителен был наш бег, что за мгновение мы преодолели расстояние, словами не изъяснимое, и тут где-то вдали, словно испускаемый самой далекой из звезд, вдруг мелькнул луч света. Исполненная надежды, Мероя устремилась туда, я последовал за нею, влекомый неодолимой силой; впрочем, ни отваге, ни терпению человеческому не постичь, как свершился наш путь назад, пустой, словно небытие, бесконечный, словно вечность. Нас отделяли от Лариссы обломки бесконечных миров, всех тех опытов творения, что предшествовали нашему и в большинстве своем настолько же превосходили размерами наш мир, насколько сам он превосходит своей чудесной огромностью недоступное взору мушиное гнездышко. Гробовой вход, принявший или, точнее, втянувший нас в свое отверстие, открыл нашему взору бескрайнюю и от века бесплодную равнину. Лишь где-то в самом дальнем уголке небосклона смутно виднелось над нею недвижное, темное светило, {68} более недвижное, чем самый воздух, более темное, чем сама тьма, царящая в этой юдоли скорби. То были останки древнейшего из солнц, покоящиеся на сумеречном небесном своде, словно корабль, затонувший в полноводном озере весенней порою, порою таяния снегов. Не оно излучало тот бледный свет, что поразил мой взор. Казалось, безродное это светило было не чем иным, как одним из оттенков ночной тьмы, если, конечно, то не догорал некий далекий мир, превращенный пожаром в тлеющий пепел.
Вот тут-то — поверишь ли? — и явились мне они все: {69} фессалийские колдуньи, а с ними — гномы, трудящиеся под землей, с медными лицами и голубыми, словно серебро в печи, волосами; длиннорукие, с плоскими, как весло, хвостами, саламандры неведомых цветов, проворно ныряющие в пламя и черными ящерицами пляшущие среди огненной пыли; аспиолы, с хрупким и тонким телом, уродливой, но самодовольной физиономией и длинными бескостными ногами, подобными иссохшей соломе, колеблемой ветром; ахроны, не имеющие ни конечностей, ни голоса, ни лица, ни возраста, со слезами катающиеся по горестной земле, словно бурдюки, наполненные воздухом; псиллы, смакующие страшный яд и в поисках этого излюбленного лакомства будящие пронзительным свистом змей в их укромных убежищах, в извилистых змеиных гнездах. Были там и морфозы, некогда столь любимые вами, прекрасные, как Психея, музицирующие, словно Грации, поющие, словно Музы, — морфозы, чей обольстительный взгляд, более пронзительный и более ядовитый, нежели жало гадюки, тотчас зажжет огонь в вашей крови и воспалит все ваше существо до мозга костей. Ты увидел бы, как, завернувшись в пурпурные саваны, блистают они ярче самого Востока, благоухают сладостнее арабского фимиама, звучат гармоничнее первого любовного вздоха невинной девы и пьянят душу, чтобы ее убить. Порой очи их исторгают влажное пламя, которое вначале пленяет, а затем испепеляет; порой они склоняют голову набок с неподражаемым изяществом, обольщая легковерных ласковой улыбкой — улыбкой коварной маски, за оживленными чертами которой скрываются восторг злодеяния и уродство смерти. Что мне сказать тебе? Влекомый вихрем духов, несшимся подобно туче, подобно кроваво-алому дыму, который стелется над горящим городом, подобно жидкой лаве, которая омывает, охватывает, опутывает кипящими ручьями осыпанную пеплом местность… я приближался… я приближался… Все гробы были открыты… все мертвые извлечены из могил… все гулы, [23] бледные, нетерпеливые, изголодавшиеся, явились на пир; они разламывали стенки гробов, разрывали священные одежды, последние покровы трупов; с жутким сладострастием делили они меж собой отвратительные останки, и неодолимая власть их понуждала меня, ибо — увы! — я был слаб и безволен, словно дитя в колыбели, понуждала меня приобщиться… о ужас!., к этой омерзительной трапезе!..