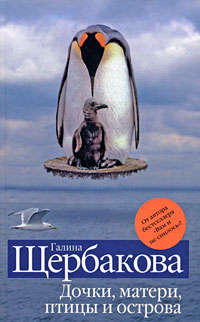Домовые

Домовые читать книгу онлайн
Они живут рядом с нами, при этом оставаясь незаметными.
Они заботятся о нас и о нашем хозяйстве.
Они — домовые! маленькие человечки с совсем не малыми проблемами…
Сборник рассказов Далии Трускиновской из серии Домовые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А за мной увязалась, чтобы побольше насчет челобитных узнать? — уже почти спокойно спросил он. — Чтобы адресок бабки Бахтеяровны выведать?
Чтобы Президента своего, будь он неладен, присушить? Так, что ли? Ох, девка, тебе бы сидеть, сватов ждать…
— Как по старинке?
— Да, как по старинке! — рявкнул Тимофей Игнатьевич.
— Так к нам и свахи не заглядыавют! Мы же — офисные! Их секьюрити не пускает!
— Плюнул бы, да уж нечем, — сообщил Тимофей Игнатьевич. — Ладно. Коли родители у тебя дураки, я тебя с собой забираю.
— Куда, дедушка?
— Куда-куда… Туда, где по старинке…
Нельзя сказать, что у Тимофея Игнатьевича вдруг проснулась совесть…
У домовых вообще большие сложности с совестью. Они полагают, будто каждое дело и каждое безделье оставляет после себя некий остаток, который приятен или же неприятен. Неприятный имеет свойство оставаться в памяти надолго. А совести как постоянного своего спутника они не разумеют, хотя бы потому, что непонятно — где же она помещается. Но вот, скажем, на сходке, когда решаются важные вопросы, можно и к совести воззвать — как если бы она действительно имелась. И ничего — действует!
То, что вдруг сгорбило Тимофея Игнатьевича и заставило крепко чесать в затылке, было для него чувством новым и непонятным. Прежде всего, оно было составным.
Немалую часть этого чувства представлял обычный страх. Домовой боялся, что все его приключения окажутся напрасны, жених к Настеньке не вернется, и местные домовые, узнав, что он не выполнил правильно, на старый добрый лад, изложенной челобитной, выставят его из дому или предложат перейти в подручные. Тьфу, стыд какой, в его-то годы…
Другую часть составляла жалость. Он действительно жалел незадачливую хозяйку, от которой ничего, кроме добра, не видел. А сейчас и ревущую
Бартерку пожалел.
Третья часть происходила удивительным образом от гордости. Следование старым обычаям и порядкам раньше, бывало, не всегда нравилось домовому, но вот сейчас он ощутил себя на две, а то и на три головы повыше забывших прошлое и отставших от правильной жизни офисных.
А вот с четвертой частью странного чувства он предпочел бы вообще никогда не иметь дела.
Ведь далеко-далеко, на другом конце голода, жила в отцовском семействе опозоренная девка Маремьянка. И она, поди, уже нянчила младенчика…
Может, мать с сестрами и пытались ей помочь, может, тоже бегали к гадалкам и ворожейкам, да что толку, если никто не знал, куда унесла нелегкая струсившего соблазнителя.
Но если по правилам…
Домовой дедушка Тимофей Игнатьевич, как и многие домовые, мог приврать, но вообще правды не боялся. Правда же в этом деле была такова — уж если хочешь, чтобы в твоем роду-племени соблюдались добрые порядки, то сам с себя и начинай.
— Пошли, — хмуро сказал он. — Может, там еще не все мои имущества растащили. В подручные тебя определю. У нас Евсей Карпович при компьютере днюет и ночует — к нему помогать пойдешь. Потом сваху позовем, замуж отдадим. Хозяйство вести научишься. Мужа слушаться…
Бартерка молчала и кивала.
— А ты, дедушка? — спросила осторожненько.
— Не твое дело.
Тимофей Игнатьевич взял Бартерку за безвольную лапку и повел, куда глаза глядят, и повел, и у первого попавшегося автомобильного разведал дорогу, и целую ночь помогал магазинному затыкать крысиные норы, чем заработал мешочек с продовольствием. И опять взял Бартерку, и опять повел, и даже обрадовался, увидев железные рельсы.
До ставшего родным дома, где живут по старинке, до сдуру брошенного разлюбезного хозяйства оставалось совсем немного. Всего две ночи пути. А там — будь, что будет.
Авось, прорвемся!
Глава первая И один в поле…
Где — не скажу, потому что с географическими координатами у этой местности туго, есть гора. Вот сейчас я пытаюсь представить себе эту гору, и получается неплохо. Она стоит на ровном месте и поросла красивыми деревьями. Очевидно, что-то с ней не так — оползти пыталась, что ли, и неведомый хозяин укрепил ее кое-где стенками из небольших, впритык уложенных, валунов. Тропа, извиваясь ведет к вершине, а на вершине что-то вроде дома без стен. То есть, имеется крыша с коньками и столбы, ее подпирающие, восемь штук. Все это — из светлого дерева, украшено резьбой и достойно солидного этнографического музея. Под крышей стоят березовые чурбаки, высокие и низкие, на которых можно сидеть человеку всякого роста.
А вот и человек. Как раз посередке и сидит.
Вид у него самый что ни на есть уличный. То есть, идешь по улице — и таких мальчишек, от четырнадцати до сорока, встречаешь чаще, чем по законам демографии полагалось бы. Особенно летом.
На горе как раз лето, и потому человек под крышей одет в майку с картинкой (рок-свинг-поп-рэп-группа со страшными рожами), в джинсы (низ уже совсем обтрепался), обут в кроссовки (никакая не фирма, наидешевейший самодуй). Его длинные русые волосы завязаны хвостиком, и еще у него на голове что-то вроде кожаной кепки козырьком назад. На шее, на темном ремешке, висит металлическая штуковина немногим поболее зажигалки и с невнятной чеканкой. Вид удивительно безалаберный.
Чурбан, который он для себя выбрал, ему высоковат, и поэтому человек сидит половиной зада и качает в воздухе левой кроссовкой.
Он ждет. Сразу видно — ждет. Но недолго.
Вообще-то он мне нравится. У него живая физиономия, склонная скорее к беззаботной улыбке, чем к благопристойной гримасе тягостного размышления. Кроме того, он живет по принципу «одна нога — здесь, другая — там».
И вот он услышал!..
Очевидно, услышал шаги. весь подался в сторону звука, на лице отразилась надежда, а потом притухла. Возможно, потому, что это были шаги одного человека.
И появился из кустов хмурый дядя.
Бывают такие мужички в полтонны весом, которые от собственной тяжести и силищи даже горбятся. Плечищи у них — вековые утесы, а взгляд говорит определенно и без всяких там экивоков: «Ну, что пристали? Ща как дам!»
Одет дядя был как-то неуловимо, в зеленовато-серое, но чтоб я сдох, если могу так сразу назвать этот вид одежды! Балахонохламида какая-то, однако то ряд пуговиц блеснет, то пряжка ремня, а то вот галстук за дядей по траве волочится, как будто пытается выползти из штанины, хотя просвета между ногами я не вижу, и, следовательно, этот мрачный тип — не в штанах…
— Здрав буди! — буркнул этот хламидоносец.
— И ты.
Дядя сел на чурбан, отчего чурбан сразу ушел на два вершка в землю. Теперь мне стало ясно, почему одни седалища еще высокие, а другие уже низенькие. Из-за пазухи балахона была добыта пачка сигарет.
— Здесь-то зачем? — неодобрительно спросил хвостатый человек. — Внизу не накурился?
Пачка словно вползла в открывшуюся щель, и складки ткани за ней сомкнулись.
Какое-то время они ждали вместе.
— Больше никто не придет, — сказал дядя.
— Авось подойдут.
Дядя посмотрел на хвостатого, словно бы буркнул: экий ты легкомысленный, все у тебя на авось…
Они подождали еще малость.
— Нет, не подойдут. Вдвоем совещаться будем.
— А если даже и так? — беззаботно отвечал хвостатый оболтус.
Дядя тяжко вздохнул.
— Ты как сюда попал?
— Запросто!
— Запросто — это как?
— Ну, шел себе, шел припеваючи, гляжу — а я уже здесь.
— По сторонам, стало быть, не смотрел?
— А зачем?
— А ты посмотри.
Хвостатый вечный мальчик взобрался на чурбан и, придерживаясь за подпирающий крышу столб, поглядел вниз.
Присвистнул…
— Вот то-то и оно, — сказал дядя. — Авось — он Авось и есть. А другим-то сюда и не пробиться.
— А ты?
— А я кто пристанет — того и хвачу. И дальше следую.
— Могуч ты, Кондратий, — со странным неодобрением заметил хвостатый.
— Ветер у тебя в голове, Авось, — отрубил Кондратий. — Нас со всех сторон обложили, птице не пролететь, а тебе все трын-трава.