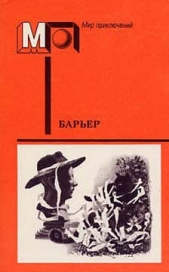Житейские воззрения Кота Мурра

Житейские воззрения Кота Мурра читать книгу онлайн
Мастер Абрагам Лисков, фокусник и чудотворец при дворе карманного княжества, во время устроенного им фантасмагорического праздненства спасает от утопления котенка. Мурр учится понимать язык рода двуногих, постигает грамоту и поглощает обрывки знаний из стариных фолиантов со стола маэстро, чтобы, наконец, поступить в услужение Иоганнесу Крейслеру и увековечить на бумаге свои наблюдения.
Одареннейший из котов пером и чернилами излагает свою биографию и взгляды на мир, используя в качестве промокательной бумаги странички записей своего хозяина, благодаря чему мы кое-что узнаем и о жизни мятежного музыканта.
Это философская сказка о столкновении двух миров: мира обывателей, прагматиков-рационалистов с любимым гофмановским героем: неприякаянным художником, скитальцем, житейским неудачником, неизлечимым романтиком. Причем мир филистеров-рационалистов, презирая «этих чокнутых художников» подсознательно стремится подражать им, что замечательно видно на примере «Записок» вышеупомянутого кота. Так возникает еще одна важная для Гофмана тема: тема двойничества, тема подлинных и подменных, ложных сущностей. «Записки...» отличает и фирменный гофмановский юмор: иронично-саркастический и, одновременно, прозрачный и легкий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У надгробных проповедников есть обыкновение представлять присутствующим полное жизнеописание усопшего с превозносительными добавлениями и замечаниями, и это обыкновение весьма похвально, ибо оно навевает на самого опечаленного слушателя скуку и отвращение; а как явствует из опыта и свидетельств испытаннейших психологов, скука наилучшим образом разрушает всякую печаль, и таким образом надгробный проповедник сразу исполняет обе свои обязанности: воздает должную хвалу усопшему и утешает покинутых им. Тому немало примеров, и неудивительно, что самые удрученные скорбью уходят домой довольные и веселые, ибо, радуясь избавленью от мук надгробной речи, они легко переносят утрату отошедшего в лучший мир. Дорогие собравшиеся здесь братья, сколь охотно последовал бы я достохвальному, испытанному обыкновению, сколь охотно представил бы и я вам полное, обстоятельное жизнеописание опочившего друга и брата и обратил бы вас из котов опечаленных в котов довольных, но это невозможно, это поистине невозможно. Внемлите, дорогие возлюбленные братья, когда я говорю вам, что о самой жизни усопшего, о рождении, воспитании и дальнейшей его карьере я не знаю почти ничего, посему я мог бы преподносить вам лишь побасенки, неподобающие серьезности сего места, у тела опочившего, и торжественности нашего расположения духа. Не обессудьте, братья! Вместо этой длинной, скучной болтовни я хочу просто сказать в нескольких словах, как скверно кончил этот бедняга, который лежит здесь пред нами окоченелый и мертвый, и каким честным славным парнем был он при жизни! Но, о небо, я сбился с тона и правил красноречия, хотя я и кандидат этой науки, и надеюсь, если судьбе будет угодно, сделаться professor poeseos et eloquentiae! [141]
(Гинцман умолк, почистил правой лапкой уши, лоб, нос и усы, долго созерцал недоуменным взглядом тело, откашлялся, снова провел лапкой по лицу и, повысив голос, продолжал.)
О горький рок, о злая смерть! Зачем столь жестоко настигла ты в цвете лет усопшего юношу? Братья, каждый оратор обязан до тошноты повторять своим слушателям то, что им уже давно известно, посему и я говорю, что, как всем вам известно, брат, отошедший в мир иной, пал жертвой яростной ненависти шпицев-филистеров. Туда, на ту крышу, где прежде увеселялись мы, где царили мир и радость, где звонкие песни оглашали окрестность, где лапа об лапу и сердце к сердцу мы составляли единое целое, туда хотел он пробраться, дабы в тихом уединении отметить со старостой Пуфом память этих прекрасных дней ― истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже миновавших; но шпицы-филистеры, кои преследуют все попытки возродить наш веселый кошачий союз, поставили капканы в темном углу чердака; в один из них и попался злосчастный Муций, размозжил себе заднюю ногу и ― должен был умереть! Болезненны и опасны раны, наносимые филистерами, ибо филистеры пользуются всегда оружием тупым и зазубренным. Но, сильный и могучий по природе своей, наш друг, отошедший в лучший мир, мог бы невзирая на опасные раны подняться исцеленным; однако сознавать свое поражение, нанесенное презренными шпицами, видеть себя поверженным во прах на самой вершине блистательного поприща, постоянно помышлять о позоре, всеми нами испытанном, ― оказалось не под силу навсегда ушедшему, и глубокая, невыносимая скорбь сокрушила его. Он отверг все необходимые перевязки, отверг лекарства, ― говорят, он умереть хотел!
(Я, все мы при этих последних словах Гинцмана ощутили горестную боль и разразились такими жалобными воплями и криками, что скалы и те б смягчились. Когда мы несколько успокоились и могли слушать, Гинцман с пафосом продолжал.)
О Муций, обрати свой взор на нас, здесь стоящих, на слезы, проливаемые нами по тебе, усопший кот, услышь безутешные стенания по тебе, нами возносимые! Да! Взгляни на нас сверху или снизу, как тебе ныне удобнее, да пребудет дух твой меж нас, ежели только ты еще им располагаешь, ежели то, что обитало внутри тебя, не использовано в ином месте! Братья, как я уже сказал, я придержу язык насчет биографии покойного, так как я ничего о ней не знаю, но тем живее в моей памяти его превосходные качества, и я хочу, о возлюбленные братья мои, сунуть их вам под нос, дабы вы восчувствовали в полной мере ужасную утрату, кою вы претерпели со смертью дивного кота! Внемлите вы, о юноши, намеренные никогда не сворачивать со стези добродетели! Внемлите! Муций был ― как, увы, лишь немногие в этой жизни ― достойный член кошачьего общества! Добрый и верный супруг, превосходный любящий отец, ревностный поборник правды и справедливости, неутомимый благодетель, опора бедных, верный друг в нужде.
Достойный член кошачьего общества? ― Да! Ибо он всегда выказывал наилучший образ мыслей и был даже готов понести некоторые жертвы, если все отвечало его желаниям, а враждовал единственно лишь с теми, кто ему перечил и не покорялся его воле. Добрый и верный супруг? ― Да! Ибо он устремлялся за другими кошками лишь тогда, когда они были красивее и моложе его супруги и когда его увлекало к тому непреодолимое желание. Превосходный, любящий отец? ― Да! Ибо никогда не было слыхано, чтобы он имел обыкновение, подобно грубым бессердечным отцам нашего рода, когда на них нападает особый аппетит, закусывать кем-либо из своих малюток ― напротив, он рад был, что мать уносила их всех с собою и он более ничего не знал о том, где они обретаются.
Ревностный поборник правды и справедливости? ― Да! Ибо он жизнь свою положил бы за них, но оттого, что жизнь дана нам лишь однажды, он не слишком о них пекся, а стало быть, нельзя и пенять на него. Неутомимый благодетель, опора бедных? ― Да! Ибо из года в год он в канун Нового года выносил во двор бедным братьям, нуждающимся в пропитании, селедочный хвостик или несколько тонких косточек, и, свершив этим свой долг, как достойный друг кошачества, он справедливо рычал на тех нуждающихся котов, которые домогались от него еще чего-то. Верный друг в нужде? ― Да! Ибо, впав в нужду, он не отвергал тех из своих друзей, которых до этого оставлял в небрежении или вовсе забывал об их существовании.
Усопший брат наш! Что сказать мне о твоей доблести, о твоем высоком, светлом чувстве ко всему прекрасному и благородному, о твоей учености, о твоем художественном вкусе, о тысячах добродетелей, в тебе сочетавшихся? Что скажу я, что сказать мне об этом, не усилив тем многократно нашу справедливую скорбь о твоем горестном сошествии в иной мир? Друзья мои, растроганные братья! ― ибо мне удалось, к немалому моему удовольствию, заставить вас то и дело трогаться с мест, как я замечаю по вашим недвусмысленным движениям, ― итак, растроганные братья, возьмем в образец опочившего, дабы идти вослед его достойным стопам! Уподобимся в совершенстве покойному, и мы также обретем во смерти покой истинно мудрого, воссиявшего всеми добродетелями кота, подобно усопшему.
Зрите ж, сколь мирно покоится он, не шевеля даже лапой, сколь бессильна моя хвала его совершенствам вызвать у него хотя б малейшую улыбку удовольствия! Однако смею заверить вас, скорбящие братья, что и горчайшее порицание, злейшие, оскорбительнейшие поношения одинаковым образом не возмутили б сон опочившего; даже сам дьявольский шпиц-филистер, коему он прежде незамедлительно выдрал бы оба ока, мог бы вступить в этот круг, нимало не приведя его во гнев, не потревожив его кроткого, сладостного покоя.
Превыше похвал и порицаний, превыше всяческой вражды, всяческих насмешек, всяческих лукавых глумлений и поношений, превыше превратной суеты житейской вознесся ныне наш дивный Муций; нет у него более для друга ни приятной улыбки, ни пламенного объятия, ни честного пожатия лапы, но зато нет и когтей, нет и зубов для врага. Своими добродетелями он достиг в смерти покоя, коего тщетно алкал в жизни. Однако сдается мне, что все мы здесь сидящие и завывающие о друге найдем покой, не превращаясь в подобный ему образец всех добродетелей, и что, конечно, есть иное побуждение к совершенствованию, чем стремление к покою смерти. Но это только предположение, которое я предоставляю вам для дальнейшей обработки.