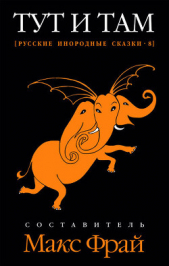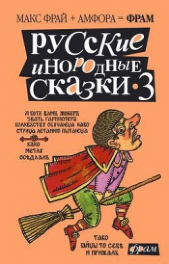Русские инородные сказки - 6

Русские инородные сказки - 6 читать книгу онлайн
Мы снова рассказываем друг другу сказки и записываем их, когда не лень, а потом из сказок составляется очередная книжка — казалось бы, что может быть проще? И в то же время меня не оставляет ощущение, что мы — издатель, составитель и авторы, все вместе — делаем нечто невозможное, невообразимое, немыслимое. Я не могу объяснить, почему обычная с виду книга, шестой по счету сборник авторских сказок, кажется мне чем-то «невозможным», но твердо знаю, что это — так.
Мы делаем невозможное, и у нас получается — вот он, философский камень, превращающий свинцовую тоску небытия в золотой огонь жизни. Мы делаем невозможное, и у нас получается — именно так я представляю себе рай. Мы делаем невозможное, и у нас получается — если смысл жизни не в этом, я так не играю.
Мне даже жаль немного, что я не могу быть просто читателем, который случайно берет в руки эту книгу, открывает ее наугад, начинает читать, а потом понимает, что уже полчаса стоит столбом посреди книжного магазина. Будь я читателем, счастье мое было бы неожиданным и пронзительным, и может быть, мне даже удалось бы сформулировать, почему обычная с виду книжка кажется мне чудом — уж не приснилась ли? Вопрос, впрочем, риторический, точного ответа на него не существует даже для составителя. И хорошо, что так.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Волк лег на холодный влажноватый песок, вытянул морду поверх лап. Покой и тихая радость коснулись его души и, не встретив отпора, медленно прошли ее до самого… что самое в душе? Не надо о нем беспокоиться, понял волк. С этой-то дудкой. А слышали еще такое слово «паника»? Он может. Наверно, он может. И он теперь никуда не уйдет от этого леса, этой реки, берега, русалки, трав и деревьев, птиц, наливающихся ягод. И от меня.
ВИКТОРИЯ ГОЛОВИНСКАЯ
ДЕВОЧКИ СПЯТ
По правую руку у Анне ангелы, по левую ничего. Ангелы мешают ей спать, толпятся, маячат белыми пятнами в темноте, вздыхают. Анне поворачивается на левый бок, но там стенка и неудобно.
У Лил по левую руку тьма; в ней холодно пальцам. Лил ежится и вздрагивает во сне, прячет ладонь под подушку, рука немеет и неудобно.
У Лерет в изголовье цветы, а под кроватью жабы; жабы ей нравятся, квакают успокаивающе, мерно, баюкают, а цветы пахнут нагло и громко, как оркестр. Лерет накрывает цветы колпаком на ночь, но это не спасает. Жабы от цветов чихают, но и это у них получается мелодично.
У Кинсе в ногах бабушкин сундук, из которого лезут к ней в сон укутанные шалями сказки. Кинсе сказки не любит — от них пахнет нафталином, а шали колются.
Бабушка-ведьма жалуется: девочки так беспокойно спят. Никакого уважения к традициям.
КАМЕННЫЙ ДОМ
Как-то вдруг она решила выйти замуж. Не то чтобы она любила этого малого… как его там… ну да бог с ним, нет, она его, конечно же, не любила. Так, что-то взгрустнулось пару раз, и недавно в самой большой витрине магазина на главной улице появилось нечто роскошное, белое, с воланами и тюлем. И еще, может быть, немножко перестала радовать левая бровь у ее отражения в блестящей поверхности зеркала, стоящего в спальне. Она даже велела было его заменить, но ее не послушали: и так расходов полно, а на урожай в этом году никто особо не рассчитывал — весенние заморозки сделали свое дело. Мэгги и О’Брайены перебирались в город, ну а она вот решила остаться. Почему — никто понять не мог, но — решила так уж решила, у О’Конноров слово крепко. Так что денежки бы ей не помешали. А еще с этим нелепым замужеством — Грэйс О’Коннор скоро по миру пойдет, говорили в деревне. Впрочем, что с нее взять, тут же добавляли седые матроны, опасливо косясь на старый каменный дом, почерневший от веками стегавших его дождей, — все они такие, О’Конноры-то, и мать ее тоже не в себе была, а уж бабка… Когда болтовня кумушек коснулась бабушки Кэти, резкий порыв холодного северного ветра промчался по пыльной дороге, взметнув подолы их пестрых юбок и в который раз заставив замолчать. Грэйс ничего не могла с собой поделать: этот липкий шепот выводил ее из терпения. Что они знали о бабушке Кэти, эти глупые курицы! Разве она виновата в том, что пальцы ее понимали больше, чем эти дурехи? Как будто их поля стали приносить больше с тех пор! Она же никогда не желала им зла, и даже когда они вели ее на костер, она заговаривала от колик младенца Бриди О’Доннелл. И даже Бриди не знала, что там шептала себе под нос лесная ведьма, как они ее звали… Ожоги-то от костра были сильными… Грэйс поежилась. Да, долго ей пришлось лечить свою обожженную кожу, мох-то малютке собрать непросто, даже если помнишь, где он растет. А вот трилистник отыскать так и не удалось. До сих пор у нее остался этот шрам — над левой бровью, пятно дьявола… Нет, видно, кумушек не переделать — будут плести свои бредни, как плели их матери и прабабки… И скоро, видно, придется вновь пройти очищение… Что ж, урожая у них не прибудет, но хоть душу отведут. Жаль только Патрика. Так он о наследнике мечтает, глупый… Да, не всё кумушки успевают, вот и этому отчаянному малому еще не успели нашептать, чтоб держался подальше от дома О’Конноров. Жаль его, что и говорить… На костер-то они его не потащат, но вот камнями забить могут, это на них похоже… А он не из крепких, даром что издалека. Да если и выживет, умом тронется, это точно. Сына-то ему не видать, а вот с дочкой он и сам видеться не захочет, после Огненного дня. Да к тому же нельзя ему ее видеть-то. Оранжевые глаза Грэйс он сразу узнает, слишком часто они ему снились по ночам. А уж отметину над левой бровью, багровую в первые дни, незаметной не назовешь.
ЮЛИЯ ЗОНИС
ТИБУЛ
Ненависть омывала его как светлый кокаиновый драйв, когда легко и уже совсем не больно. Больно. Можешь разорвать меня на части, сообщил он бультерьеру, который как раз и собирался это проделать. Заглянув в глаза присевшему на корточки человеку, собака приложила все возможные усилия, чтобы поджать обрубок хвоста. Когда это ей не удалось, скотина взвыла и полезла в подпол. Она протискивала и протискивала длинное тело в куриный лаз, отчаянно работая ляжками.
— Как же я вас всех ненавижу, суки подлючие, — ласково сказал человек, вытащил из кармана Макаров и разрядил всю обойму в дергающуюся собачью задницу.
Человека звали Гимнаст Тибул, и нынче вечером он как раз собирался прогуляться по канату.
Прогулка по канату смахивает на прогулку по доске, с одной разницей: падать, как правило, чуть дольше, а приземляться чуть больнее.
«…свиньи и ублюдки», — так обычно думал Тибул, глядя на толпу внизу. Макушки волосатые и лысые, макушки в шляпах и в платках, лица, задранные кверху так старательно, что даже со своей высоты Тибул различал черные дула ноздрей.
«…чтобы вам всем сдохнуть», — думал Тибул, ступая на дрожащую струну. Таракан на гитаре, вот кем он себя представлял. На электрогитаре, добавлял он к середине каната, и волоски на затылке невольно дыбились в предчувствии того, как чья-то злонамеренная рука врубит ток в шесть тысяч вольт. Из окон скалились молоденькие горожанки, и улыбки их казались белыми таблетками яда в тараканьей ловушке.
Вечером он пробирался к себе на чердак, в тараканью каморку. Мыши разбегались, услышав его шаги. Били по крыше ветки старого каштана. На кровати Тибула ждала Суок. Мыши слегка погрызли ее щеки, но чудесные длинные ресницы уцелели, и так же безмятежно глупы были кукольные глаза. Тибул падал на колени, зарывался лицом в шуршащие муслином юбки и выдыхал всю грязь длинного дня.
— Суок, — говорил он, и кукла благословенно молчала. — Суок, боже мой, Суок.
Потом голос переходил в стон. Кукла продолжала молчать, и только тряслась старая раскладушка и дребезжали часы на полке. Трещал за мотками изоляции сверчок, потерявший своего Буратино. Время выходило на новый круг, звезды теснили другие звезды с орбиты. Никому не было дела до Тибула с Суок в их каморке, никому, решительно никому.
Странно тихи на границе дня и ночи дома. Они умеют петь, но не умеют говорить, они умеют молчать, но не умеют спрашивать. В каждом доме есть своя крыса Шушара, свой Яго с платочком, своя тараканья ловушка со сладким ядом. Ловушка Тибула была в пупке Суок. Казалось, для чего бы кукле пупок и какая из него могла выходить пуповина? Куда тянулась эта пуповина, уж не в высоковольтную ли розетку, где шесть тысяч ждут заветного часа? Лаская нитрополипиреновые кудри Суок, Тибул иногда размышлял об этом, но никогда не задумывался надолго. Думать вообще было не в его привычке.
Утром звенел будильник. В раковине стояла ржавая вода, внизу ссорились соседи, отправляя сына в школу, — а что сын уже пятнадцать лет как сгинул на чьей-то чужой войне, они так и не успели заметить. На стене в рамочке висела пожелтевшая страница, сочинение третьеклассника «Мой город».
«Я ненавижу мой город, — писал малыш. — Я хочу, чтобы на него упала ядерная бомба, прямо на папин гараж, когда папины пятки торчат из-под его чертова “запора”». Под сочинением стояла крупная красная отметка «отлично». Бомба упала на город пятнадцать лет назад, но, как ни странно, ничего не изменилось, только больше стало лысых — и толпа под Тибулом теперь напоминала то ли промышленный инкубатор, то ли булыжник после дождя.