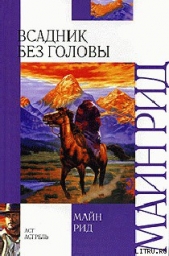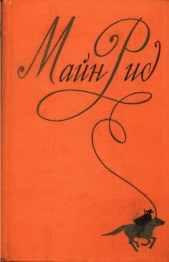Маги и мошенники
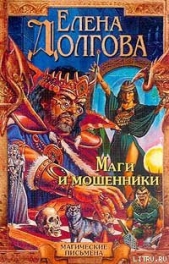
Маги и мошенники читать книгу онлайн
Звенят мечи. Бунты потрясают могучую Империю. Горят города. А по дорогам идет человек, умеющий писать и переписывать Историю. Остросюжетное произведение Елены Долговой – автора романа «Сфера Маальфаса», вызвавшего интерес критики и читателей, – предназначено для всех любителей боевой фэнтези.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Едут! Смотрите, вот он!
Толпа колыхалась словно несжатое поле, процессия двигалась медленно, конная стража грубо толкала зевак, в давке взвизгнула ушибленная женщина.
Повозка приблизилась, я присмотрелся к осужденному. Бретон стоял на коленях на дне телеги, его переодели в чистую белую рубашку, связали руки за спиной. Кажется, за прошедшие недели в черных волосах ересиарха появились седые пряди, но расстояние и толкотня мешали мне рассмотреть его как следует. Признаться, из общения с мятежником я вынес очень мало приятных воспоминаний, однако в этот момент я не испытывал к нему ничего, кроме жалости и сострадания – осужденный старался держаться прямо, но неловко опущенное правое плечо, скорее всего, было вывихнуто на дыбе.
Какая-то старуха во вдовьем покрывале и шали, с гордым профилем сивиллы, бросилась едва ли не под колеса. Лошади сбили несчастную с ног и встали; подмастерья палача, спешившись, подхватили женщину под руки и отшвырнули ее в сторону. Бретон вздрогнул, как будто намереваясь двинуться к упавшей, но веревки не позволяли этого сделать.
Голытьба столицы шумела и вопила. Некий предмет пролетел в воздухе и упал на телегу. Сначала мне показалось – кто-то швырнул в осужденного грязью, но я оказался не прав – это был цветок полевого мака. Он словно пятно крови алел на повозке, Бретон так и не сумел связанными руками подобрать последний, прощальный подарок.
Осужденного втащили на эшафот. Следом поднялся сам епископ столицы, я не сумел расслышать слов, но разговор явно вышел слишком коротким. Вид у примаса Империи был обескураженный. Бретона тем временем раздели и привязали к колесу. О чем думал в эти минуты осужденный мятежник Империи? Осталось ли в его душе что-то, кроме страха? Не знаю.
Как только его лицо обратилось к небу, он крикнул:
– Верую!
Этот голос, не очень громкий, но все еще сохранивший отзвук былой гордой твердости, я не могу забыть до сих пор.
Толпа ахнула и разразилась воем – в реве и ропоте массы людской было что-то от стихии, так стонет ураган или гремят раскаты грома, только в этом случае звуки были лишены присущих природе чистоты и величия. Было в них нечто пакостное. А Бретон… Я понял, что не в состоянии смотреть на это, и в то же время, парализованный ужасом, не мог отвести глаз.
Кто-то дернул меня за рукав, я сделал над собою усилие и оглянулся, рядом стоял огорченный фон Фирхоф:
– Вы чужой здесь, Россенхель, тут вершится не ваше дело, не надо, не глядите.
Я понимал, что он прав, и не находил в себе сил не смотреть. Палач отложил лом и взялся за нож. Самое страшное – осужденный все еще жил и, кажется, находился в сознании. Его классически правильное лицо исказилось до неузнаваемости, став маской бесконечного страдания. Я поймал взгляд Бретона, не могу сказать точно, узнал ли он меня, но в мути, застилавшей глаза мятежника, проступило осмысленное выражение. Теперь эти сияющие глаза казались чужими на пустом, смятом болью лице.
Палач делал свое дело, толпа вопила. Я ощутил резкую тошноту, едва удерживаясь на грани сознания. Фирхоф твердо взял меня под руку.
– Пойдемте, ни к чему ждать конца. Глупо было приходить сюда, на вас нет лица, Россенхель.
Я покорно поплелся за Людвигом, вместе с ним расталкивая зрителей, чужие тела казались мне плоскими силуэтами декораций, физиономии – уродливыми личинами. Я почти оглох, в ушах звенело, этот звон перекрыл и свист, и улюлюканье толпы.
– Вольф, Вольф, держитесь, Бога ради, не надо валиться под ноги зевакам и дуракам…
Фон Фирхоф, неистово работал локтями, поддерживая и подталкивая, тащил меня прочь, но я не слушал его уговоров.
Я отворачивался, я зажмуривался – но все равно видел все. Перед моим мысленным взором стояли широко открытые глаза Бретона. Теперь я понял, почему они показались мне странными.
В них больше не было ненависти.
И в них отражалось небо.
Глава XXV
Второе искушение творца
Адальберт Хронист. Замок Лангерташ, Церенская Империя.
…Стилет я украл. Сейчас уже не важно – как и где. Кольцо хранило меня от подозрений в неблагонадежности, это-то и сыграло главную роль. Я припрятал оружие, как мог, и не без остроумия – распахнул окно, нащупал снаружи, в облепленной ласточкиными гнездами и испятнанной птичьим пометом стене длинную щель, и сунул туда тонкое холодное лезвие. Не самый подходящий тайник для хранения хорошей стали, но я собирался воспользоваться клинком всего лишь один раз, зато очень скоро.
Пока кинжал оставался невостребованным, я успел встретиться с императором Церена. Хрониста как почетного гостя проводили по сумрачным переходам и я оказался в кабинете со стрельчатыми окнами. Прямо передо мною, в резном кресле сидел человек чуть старше тридцати лет, но уже располневший, слегка поседевший, с круглым, почти добродушным лицом.
Я вежливо поклонился, потом, как только он предложил мне это сделать, сел на табурет. На среднем пальце правой руки церенский повелитель тоже носил кольцо – но не такое, как у меня, каменное, а роскошный перстень тяжелого золота с большим сияющим рубином. Наш разговор смело можно считать верхом вежливого лицемерия. «Я читал ваши сонеты – они великолепны» – ласково уверил меня властитель. Я рассыпался в благодарностях, потешаясь в душе – Гаген не упомянул про моего же авторства сатиры, хотя в Церене их любили куда больше моих посредственных любовных стихов. «Я рад видеть такого человека в числе наших добрых друзей» – заявил он с видом покровителя искусств. Наверное, в других обстоятельствах император и покровительствовал рифмоплетам, но от меня-то ему требовалось совсем иное. Я опять раскланялся как мог. «Вы не интересуетесь белой магией?» – Гаген очень осторожно, чуть-чуть коснулся скользкой темы. «Сейчас это модно, такие опыты суть разновидность тонких искусств», – с самым непринужденным видом добавил он. «Ах, нет, я недостаточно образован для подобных занятий», – бессовестно солгал я. Император с трудом скрыл разочарование, он насквозь видел мое вранье, но, по-видимому, в силу природного добродушия и осторожности политика не решался сразу перейти к открытому насилию. «Быть может, вы, любезный Россенхель, составите нам, мне и Фирхофу, компанию в ученых занятиях?».
Я заколебался. С одной стороны, меня мучило жгучее любопытство, желание без помех покопаться в чужих полузапретных тайнах. С другой стороны, стоило увязнуть в императорских махинациях хотя бы кончиком пальца, этот венценосный интриган получал меня целиком.
Повелитель Империи прекрасно понимал суть искушения. «Вы медлите? Смелее, Россенхель!..»
Я мучительно соображал, выдумывая благовидный предлог для отсрочки. Как назло, все заранее приготовленные возражения были рассчитаны на грубое принуждение, но никак не на вежливое, мягкое давление, которое предпочел император. «Они вдвоем с Фирхофом успешно делают из меня дурака», – грустно подумал я. Что я мог ответить? «Увы, я вынужден отказаться от высокой чести…» «Но почему?!»
Я дерзко посмотрел прямо в добрые карие глаза церенского реформатора-тирана, после чего принял нарочито скорбный вид человека, не по своей вине упускающего роскошный, удивительный, единственный за всю жизнь шанс.
«Так почему?» – повторил свой вопрос император.
«Потому что я грешен и недостоин!»
Гаген Справедливый, по-видимому, опешил от такой наглости. Хотя, надо сказать, в сомнительной ситуации он держался весьма достойно – не кричал, не бранился и не пытался немедленно отправить меня на казнь. Он слегка нахмурился, в прищуре венценосца проявился нарождающийся гнев, только губы продолжали улыбаться.
«Ну что ж, тогда аудиенция окончена. Мы вернемся к нашей беседе позднее, я вижу, вы устали, Россенхель. Когда человек устал, он перестает разумно оценивать и свое положение, и внешние обстоятельства».
На этой «оптимистической» ноте и закончился мой разговор с правителем Церена. Я ушел, остался в одиночестве и задумался. Положение становилось уже не просто драматическим, а прямо опасным до полного трагизма. В амплуа автора сатирических песен я подлежал имперскому правосудию за оскорбление величества, как мимолетный товарищ несчастного Бретона – считался государственным изменником, а в роли создателя подметных гримуаров подлежал суду инквизиционного трибунала. И если обвинение в государственной измене витало надо мною словно бы полупрозрачной тенью подозрений, то пасквили и колдовство отрицать уже не было никакого смысла. Впрочем, и одного из обвинений хватило бы с лихвой – я жил до сих пор только потому, что был нужен императору для его сомнительных делишек.