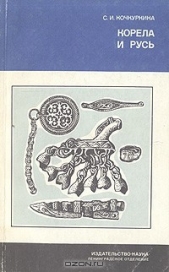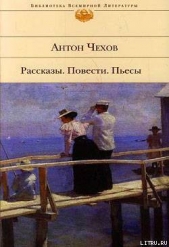Двое у подножия Вечности

Двое у подножия Вечности читать книгу онлайн
Над кровавыми снегами XIII века сходятся в надзвездной битве великие — и бессильные — божества, которые, увы, лишь грезы Видящего Сны... И сгорают у подножия Вечности свиток Истины и меч Справедливости, из пепла же их Восстает Конечная Суть... И слепнут экраны компьютера, неспособного ответить на вопрос средневекового рыцаря, взыскующего Любви. И уносит Река вневременья человека, ушедшего Отсюда, побывавшего у Тех, и у Этих, отвергнутого всеми — и отвергнувшего всех... В этих странных мирах вы найдете ярость сражения и опаляющий лед ненависти, вас встретят сумерки прошлого и негреющий свет Будущего — и вы почувствуете свою обреченность. Или — надежду?..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как это сделать?
Ответ возникает сам собой, это не подсказка, но и не своя выстраданная мысль; это готовое решение, простое и безошибочное, отшлифованное до блеска.
— Если великие люди улуса, богатуры и нояны, те, кто живет теперь, и те, кто будет после нас, не станут крепко держаться закона, то дело улуса прервется и потрясется, и кто будет виновен в том? — задумчиво, словно сам себя спрашивает Ульджай.
Вздрагивают лица монголов. Словами Потрясателя Вселенной говорит убийца-ноян, а в каждом таком изречении — высокий намек и сокровенный смысл. Нельзя не слышать повторяющего Ясу note 77 .
Кто виновен? Конечно, нарушивший закон. Кто лучше понимает закон? Разумеется, стоящий выше. Так нет ли скрытой сути в поступке Ульджая, если он, высший, лишил жизни низшего, пусть и мэнгу? Думайте, богатуры, думайте; если слова рыжебородого убийцы — ваш закон, тем хуже для вас; вы обманете сами себя, ведь сила без справедливости — ничто, а вы одна лишь сила, и только она.
Неторопливо подняв руку, Ульджай щелкает пальцами. Он уверен: Тохта поймет, и Тохта понимает без слов. Он спешит в юрту и вскоре бежит обратно, держа за волосы отрезанную голову сотника-монгола. И все это занимает ровно столько мгновений, сколько нужно джауну мэнгу, чтобы усомниться в праве на ненависть.
— Если всадник теряет плеть, — задает новый вопрос Ульджай, — то кто же виноват? Тот ли, кто уронил плеть, или тот, кто, едучи сзади, поднял плеть? Если воин натянул лук и пустил во врага стрелу первым, но стрела летит мимо, кто же виноват, если в ответ пустили стрелу и попали в глаз воину? Кто виноват в смерти воина: сам ли он, имевший первый выстрел, но промахнувшийся, или враг, что выстрелил вторым, но попал?
Окровавленная голова падает к ногам мэнгу, стоящих в первом ряду, и пятнает красным истоптанный бурый снег. Глаза сотника изумленно вытаращены. Он не ждал удара! Но в самом деле, кто же виноват: тот ли, кто приказал убить, или сам сотник, позволивший так поступить с собой? Думайте, думайте, богатуры!
А Ульджай уже не спрашивает. Он бьет в упор — словами Чингиса:
— Достоин вести людей лишь тот, кто не просто бережет их от голода и жажды, нет; достоин бунчука умеющий сам оберечь себя и не забыть о других; тот же, кому не по силам спасти себя, погубит и людей, и оттого недостоин их вести; лучше такому умереть!
Это еще не победа. Но брешь пробита: в глазах волков-мэнгу появляется сомнение. Теперь следует замолчать. Пусть переварят услышанное, пусть поразмыслят над сказанным. Вашим же арканом свяжу я вас. Думайте, хорошенько думайте, богатуры!
Сделать больше не сумел бы никто. Один против сотни мэнгу стоял Ульджай, и каждое слово было ударом, рассекающим панцирь неподчинения. Но удары иссякли, подобно волнам, дробящимся о молчаливые скалы, и теперь оставалось только ждать, а самым важным стало не опустить глаза, устоять под прицелом множества вызывающих взглядов, сливающихся в один полный угрозы прищур.
Разбившись о мертвое молчание рядов, слова обращались против сказавшего их, откатываясь исполненным безнадежности эхом. И ухмылка окровавленной головы, щекой к снегу лежащей у ног, казалось, сделалась шире; мертвый сотник искоса подглядывал за своим погубителем, беззвучно взывая о мести.
Это было страшнее, чем сабельная рубка в открытой степи. Руки, заложенные за кушак, застыли, словно прошитые железным стержнем, и в тело впилась мелкая, резкая, кусачая боль. От жуткого напряжения зашевелились волосы под шапкой; в голове мерно застучало, будто кто-то рвался оттуда на дневной свет, все сильнее и сильнее вбивая в свод черепа маленький острый молоток…
Но и те, кто смотрел в затылок, уже почти смирившиеся, уже вполне подчиненные, тоже отнимали силу, столь необходимую в этот миг. Они ждали — победы, чтобы покориться окончательно, или — поражения, чтобы вцепиться в затылок; эти, за спиной, — не волки, они шакалы, нюхом ощущающие слабость, и если монгол, решившись, ударит в лицо, то эти, полупокорные, нападут скопом, вдавят в грязный снег и растопчут; быть может, они уже сделали бы это, если бы не Тохта; кипчак стоял, широко расставив ноги, меч его был обнажен, а в глазах, ползущих по лицам черигов, читалась смесь предостережения и решимости. Это тоже ощущал, не видя, Ульджай; он сам не мог бы объяснить, отчего уверен в кипчаке, но в объяснении не было нужды…
Прозрачные червячки поплыли перед глазами, вертясь и сплетаясь в помутившемся воздухе. Они норовили укусить зрачки, ослепить — и нельзя было приказать ресницам отогнать назойливых; прямой как стрела взгляд был оружием, единственно надежным, и чего стоит сморгнувшая стрела?..
Когда же веревка воли, натянутая до предела, с ясно различимым шорохом надорвалась, готовая лопнуть подобно изнасилованной неумехой струне, молотобоец пробил наконец дыру, выпуская из головы перешагнувшую рубеж терпения тяжесть.
Стало легко и пусто; ясный шепот услышал Ульджай и узнал голос отца. Он не мог оставить без помощи, он опять рядом; значит, не нужно бояться. Что такое ненависть сотни мэнгу, что такое гнусность разноязыких шакалов перед мудростью отца, познавшего ныне все сути и тайны?..
Шепот втекал сквозь отверстие, он был много гуще смолы и наплывал неостановимо, оседая в нутре черепа от затылка ко лбу; он был настойчив и столь липок, что шапка прилипла к волосам, отделенным от шепота твердой костью.
Отец подсказывал. Это не были слова, скорее — ощущения, не испытанные доселе; они источали сизый дым — Ульджай видел эти зыбкие струйки, словно заглядывая внутрь себя, — свивались в неясные знаки, а молчание монголов становилось невыносимым, и шорох за спиною стал явным, и шумно втянул ноздрями воздух Тохта, сделав шаг назад…
…и тогда все, что слышал, но не мог понять Ульджай, вздыбилось, ударило вперед, через зрачки, расцвело огненным грибом и свело глотку, распялив губы в пронзительном визге:
— Встаньте, павшие богатуры!
В эту ночь воевода все же сумел заснуть. Прилег на лавку, не раздеваясь, и смежил веки, не забыв приказать холопу: не буди! Не было нужды подниматься с рассветом; почти приготовленный костер татарва станет еще украшать и запалит не раньше полудня, вот тогда и будет резон подняться на стену, поглядеть на прощанье бесовские пляски. В чреве бурчало, выпитый сверх меры мед ворочался густым комом; старею, подумал Борис Микулич, раньше разве б ощутил такое после пяти-то чар? Ну шести, без разницы. И еще подумалось: а выстояли ведь, не сдали стен, молодец Борька, орел… но это уже было затуманено, неясно. Не додумав, провалился в тяжелую дрему и почти тотчас очнулся.