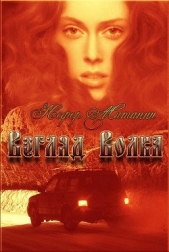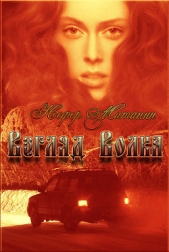Имя твоего волка

Имя твоего волка читать книгу онлайн
Если ты молода, красива и тебя зовут Маргарита, если у тебя есть странные способности, которых нет у других — ты ведьма! А это значит, ты ненавидима и презираема, где бы ты ни жила, в польской деревне позапрошлого века, или в современном городе. Дебютный роман молодой питерской писательницы Татьяны Томах — о тех, кто не похож на других.
Книга издана при поддержке «Новой литературной карты России» и неформализованного Содружества «Новые писатели России».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она была уверена, что совсем недавно старухины волосы были черны, как вороновы перья ночного неба. А тускло-серый, похожий на половую тряпку, рваный плащ, обнимающий тощие старухины плечи, несколько часов назад переливался матовым блеском дорогого шелка на плечах юной высокой женщины. И голос… Голос, который сейчас стал таким измученным и хриплым…
Как будто в сером рассвете, потихоньку выползающем из-за восточного края земли, все вылиняло почти до бесцветности и небытия. Огненно-черное звездное небо, старухины волосы, шелковый плащ, звонкий голос… Как будто…
Как будто это все не могло быть просто сном…
Как будто это могло быть чем-то, кроме сна…
В глазах, ослепших от бессонницы, уже рябило и плыло. Огоньки свечей, отражаясь от блестящей крышки гроба, дрожали и искрились ярче солнечного света в летний полдень. И казалось, как будто не над покойником истекают восковыми слезами и горестно гнутся две белые тростиночки, а полыхают десятки, а то и сотни зажженных свечей — как в бальной зале, ожидающей прихода гостей. Помолиться бы надо, да что-то никак не шли на ум да на язык благочестивые слова молитв, что должны умиротворять, смирять и примирять бестолковую мятущуюся Душу. Не получалось молиться. А может, не хотел бог принимать молитву старого пана, слишком поздно решившего обратиться к благочестию. А может, и сам старый пан не слишком-то старался… Сидел, горбя худые плечи, моргал воспаленными глазами на огни свечей и осторожно поглаживал дрожащими пальцами лакированное дерево гроба.
То, что было под его тяжелой крышкой, слишком страшно даже для смельчака старого пана…
Огни свечей расплывались желтыми пятнами в воспаленных от невыплаканных слез глазах пана. Сотен свечей, как будто в бальной зале, ожидающей прихода гостей… А гости… гости скоро пожаловали.
Он не заметил, как она вошла. Ему никогда не удавалось поймать миг, когда она появлялась.
Дуновение прохладного ветра — как сквозняк от при открытой двери, дрожь свечей, длинные тени, испуганно метнувшиеся по стенам и потолку…
Она подошла неторопливо и бесшумно — как и положено призраку, чуть склонив голову к левому плечу — как обычно. Распущенные волосы сияли золотом, в зеленых задумчивых глазах отражались огоньки свечей. Подошла и присела на резную лавку, крытую мягким ковром. Рядом со старым паном, который вежливо подвинулся, освобождая место. Поправила узкой бледной: рукой пушистую прядь волос, сползающую на лоб, дрогнула губами — то ли в улыбке, то ли в беззвучном приветствии — мол: «Ну вот, я пришла. Ждал?», и молча, задумчиво посмотрела на пана… Его мука, проклятие, наваждение снов и видение бессонных ночей…
Длинное белое платье тихонько шелестело при каждом ее движении. Это все было таким реальным — шорох платья, нежность едва заметной улыбки, сияние глаз… Таким, что хотелось протянуть руку — и дотронуться до нее… Но пан знал, что этого делать не стоит — если он не хочет сойти с ума прямо сейчас. Потому что… потому что вдруг его рука встретит не пустоту? А и в самом деле скользкую прохладу шелкового платья, тепло женской руки… Или — не тепло, а холод. Смертельный холод закоченевших тонких пальцев. Ведь она мертва, уже много лет мертва. И ее руки, и улыбка, и сияние глаз — уже давно лишь горсть сухого пепла да несколько обгорелых костей… И все равно она продолжает приходить к нему все эти годы. Его мука, проклятие, наваждение снов, видение бессонных ночей…
…Вот так, как сейчас. Сидит рядом на лавке, задумчиво склонив голову, а в ее взгляде — не то сочувствие, не то упрек. Не то просто грусть.
— Вот видишь, как оно все… получилось, — тихо сказал ей старый пан, гладя дрожащими пальцами деревянную крышку гроба. — Видишь…
И краем глаза, так и не решаясь посмотреть на нее в упор (как будто боялся… чего? — что она обидится на бесцеремонность и исчезнет, тихонько растворится в воздухе, как и положено призракам?), заметил, что она кивнула. Качнулись, вспыхнув зелеными огоньками, изумруды в серебряной вязи старинных серег — любимых, мужем на свадьбу дареных… С ними и похоронили… То есть их-то и похоронили — серьги вместе с горстью пепла и обугленных костей. И такими же огоньками вспыхнули ее глаза, заблестевшие (уж не от слез ли? — да какие слезы у призраков…), взглянувшие на пана грустно и вроде бы, с укоризной. Мол, я-то вижу, а ты, пан, — ты-то что недоглядел?
И старый пан сгорбился еще сильнее — от ее взгляда.
— Простишь меня когда-нибудь, а? — спросил тоскливо и зажмурил на секунду глаза. Заслезились вдруг — от света ярко вспыхнувших свечей или от света в ее глазах? Негоже перед женщиной нюни распускать… призрак она или нет. Вот так бы и сидеть — с закрытыми глазами, смотреть в спокойные сумерки закрытых век и притворяться перед самим собой, что нет ничего, кроме этого. Нет и не было. Сон это и больше ничего….
А чем это еще могло быть, кроме сна, дурного сна, тяжелого и муторного, скорей бы уж закончился что ли…
Он умирал. И знал, что умирает. А потому сердился и отбивался, слабо и бестолково, от влажных, пахнущих горькими травами тряпиц, которые упрямая девка все лепила и лепила на больную обожженную кожу. И не находя сил — разглядеть, узнать, вспомнить — ту, что склонялась над постелью, сипел измученно, с трудом раздирая запекшиеся, в кровавых волдырях, губы:
— Да оставь, дура, оставь меня в покое…
А она не слушала — или не слышала. И новая тряпица, истекая влажной прохладой, опускалась на пылающую огнем кожу; пальцы легонько и нежно разглаживали очередную повязку; а голос — знакомый и незнакомый, не то бормотал, не то напевал что-то — дрожащим шепотом, сдержанным плачем, ласково-бессмысленным лепетом… Вроде как — уговаривал. Упрашивал, убаюкивал. Кого? Человека, с сердитым мычанием ворочающегося на сбитой постели? Боль, адовым огнем сжигающую тело снаружи — как будто так и не затушили опалившее пламя — и ледяным ознобом колотящуюся внутри? Смерть, которую уже видно — близко-близко — из-под воспаленных, с обгоревшими ресницами, век?…
И ведь уговорила, убаюкала. Боль замерла, свернулась сонным змеиным клубком под пряно пахнущими повязками, задремала. И человек успокоился, перестал метаться и кричать, и звать свою смерть — ишь, нетерпеливый… Уснул, спокойно и безмятежно, как спят не умирающие — а выздоравливающие. И смерть, уже жадно и любопытно заглядывавшая под его обожженные вспухшие веки, отступила, засомневалась — звали, не звали? Прикорнула было рядом — подремать-покараулить, подышать в затылок ледяным холодом.
А к рассвету, позевав разочарованно, поклацав зубами, покосившись досадливо на девушку (которая так и сидела по другую сторону постели и осторожно держала в руках ладонь спящего — изуродованную, обожженную — как невесть какую драгоценность держала — мол, мое, не отдам), — так и уползла потихоньку. По делам — много дел у нее, неугомонной.
Проснувшись, он удивленно вглядывался в полумрак незнакомого дома, больно прищуривая правое воспаленное веко (левое совсем распухло и не открывалось). Дом — не дом, так себе, хижина, сеном пахнет, какие-то пучки сушеных трав под низким потолком… И все опять показалось ему сном. Странным, невозможным.
Только когда из этого полумрака вылепилось бледное девичье лицо и голос, измученный и радостный, тихонько сказал:
— Ну вот… вот так… А ты думал, что я тебя просто так отпущу? Я? Тебя?
Тогда он решил, что это все-таки, наверное, не сон…
— Тс-с, молчи, — прохладная легкая ладонь нежно тронула его губы. — Ты молчи, а то тебе сейчас будет больно говорить.
Он послушно молчал и послушно пил какое-то теплое горьковатое питье из глиняной кружки со щербатым краем, опять соскальзывал в дремоту и снова просыпался, разглядывал сушеные травы-цветы под потолком, пытался припомнить свои сны и улыбнуться девушке, заботливо склонявшейся над ним. Когда он научился различать — сны и не-сны — наверное, это было началом выздоровления. Потом он вспомнил ее имя — девочки из своих снов. И — из не-снов, потому что теперь эта девочка сидела с ним рядом, осторожно держа его ладонь в своих руках. «А ты думал, что я тебя просто так отпущу? Я? Тебя?.» И ведь не отпустила.