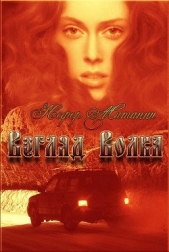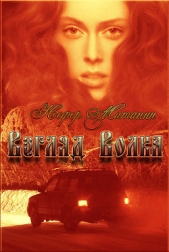Имя твоего волка

Имя твоего волка читать книгу онлайн
Если ты молода, красива и тебя зовут Маргарита, если у тебя есть странные способности, которых нет у других — ты ведьма! А это значит, ты ненавидима и презираема, где бы ты ни жила, в польской деревне позапрошлого века, или в современном городе. Дебютный роман молодой питерской писательницы Татьяны Томах — о тех, кто не похож на других.
Книга издана при поддержке «Новой литературной карты России» и неформализованного Содружества «Новые писатели России».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она опять улыбнулась, вспоминая, как легко и безупречно летают по клавишам пальцы Владислава, волшебно выпуская из недр обычно молчаливого лакированного и мрачного чудовища красивую пленницу — музыку. Его тонкие пальцы — такие сильные и нежные…
Марго подхватила край своего длинного платья, торопясь бежать в дом — скорее, скорее… и на секунду остановилась на полушаге, как будто запнувшись о тень качнувшейся ветки, бросившуюся ей под ноги.
Ей почудилось — тем звериным чутьем, каким волк чует на себе взгляд притаившегося охотника (чутьем, от которого в последнее время Марго уже стала отвыкать) — что за ней наблюдают. Как будто волк смотрел на нее — откуда-то из-за деревьев, невидимый за солнечно-изумрудной мозаикой шевелящихся листьев. И в его взгляде были укор, недоумение и печаль. А когда она огляделась — тщетно пытаясь поймать взгляд, захолодивший ознобом спину, и темный силуэт за паутиной солнечного света, — ей почему-то показалось, что волк не один. Что рядом с ним (маленькая ладошка на мохнатом могучем загривке) стоит черноволосая голенастая девочка — лет двенадцати? пятнадцати? — и тоже смотрит ей вслед. С укором, недоумением и печалью…
…Он смотрел ей вслед. Он всегда смотрел ей вслед.
В тот день, когда он впервые встретил ее, ему было двенадцать, а ей — шесть; разница — в полжизни; он смотрел, как она уходит — в сумерки молчаливого черного сада, и ее светлое платьице мелькает, как облако, за костлявыми ветками голых мокрых деревьев. Рваное, запачканное, измятое облако — но оттого не менее белое… Железная калитка, только что выпущенная маленькой рукой, все еще с медленным скрипом скользила к раскрытой пасти щеколды; и Анджею захотелось поймать ее и оттолкнуть — глупую тяжелую решетку (тюремную?) с потеками ржавчины на переплетающихся прутьях; и догнать за-чем-то уходящую в темноту девочку в белом платье.
Догнать — и снова взять за руку (прохладная маленькая ладошка, согревающаяся и оживающая в его руке — как испуганный зверек…) — и больше не выпускать, чтобы девочка в белом платье не споткнулась и не упала, и не пошла куда-нибудь, куда не надо ходить (ее платье, наверное, на самом деле раньше было белым — а теперь от него остались грязные ошметки; и ее ведь действительно могли сегодня убить, а она, кажется, так этого и не поняла… дурочка…).
И его рука уже толкнулась в холодный, бугристый от ржавчины, мокрый прут калитки, когда он вспомнил, кто она. Девочка из «плохого дома», в котором водились привидения; дочь ведьмы — и ведьма… Да даже если и не ведьма… («А как ты это слышишь?» — «Просто — слышу и все…») даже если и не ведьма… она… Она — панночка, наследница, хозяйка этого дома, и леса, и деревни, в которой жил Анджей. А он, Анджей? Босяк, безотцовщина, мамкина обуза и огорчение (любимчик-то у нее младший, рыжий хорек-подлиза…) и отчимова досада. Отчима-то, небось, устроил бы куда более покладистый и смирный пасынок — а то и вовсе лучше без пасынка. В деревне — Анджей как-то сам слышал — про отчима говорили уважительно, чуть ли не с восхищением — с дитем, мол, взял, не побрезговал… Дитем, которым, по понятию односельчан, отчим мог бы и побрезговать, был Анджей…
Кто огорчится — да кто вообще заметит, если Анджей вдруг куда-нибудь пропадет? Разве что дядька (по родственному — седьмая вода на киселе с мамкиной стороны; а по-настоящему — хозяин и учитель Анджея по кузнечному делу) — разве что дядька шваркнет с досады тяжелой рукавицей об стену, когда бестолковый и безрукий подмастерье опять не отзовется и не подскочит, как положено, качать мехи над затухающим огнем по дядькиному окрику…
Одним словом, кто он такой? Кто он такой, чтобы посметь даже близко подойти к господскому дому — не говоря уже о том, чтобы лезть в сад — следом за уходящей в зыбкие сумерки мокрых деревьев панночкой в светлом платье?..
Железный стебель калитки захолодел и потяжелел в его руке; черные вычурные завитки (кованые еще, наверное, дядькиным предшественником) смотрели с верха ограды презрительно и важно… Анджей разжал пальцы, металл нетерпеливо и гулко стукнулся о металл, и между Анджеем и грязно-серой мокрой песчаной дорожкой, уносящей вглубь сада цепочку следов от маленьких туфелек, встала решетка. Крепко и непреклонно. Так, как и должно быть.
Анджей постоял немного, глядя на темнеющий сад сквозь переплетение толстых, с кровянисто-ржавыми потеками, черных прутьев. Пацаны, не упускавшие случая поворовать яблок под прикрытием темных августовских вечеров, нагло и отчаянно презирая при этом родительские увещевания и болезненную порку крапивой, тем не менее и близко не подходили к господскому саду, дразнившему из-за узорчатой ограды самыми крупными в округе сочно-бордовыми и невиданными, удивительными, нежно-золотистыми яблоками.
Потому что все знали: в это место (заколдованное, дурное) лучше не соваться — тем более ближе к ночи. Да и потом, были еще собаки (выписанные паном Владиславом откуда-то из-за границы для охраны дома — после того памятного пожара), которых вечером спускали с цепи, из-за чего даже прислуга не рисковала выходить во двор. Поговаривали, что эти собаки в клочья изорвали каких-то нищих, которые имели неосторожность попросить ночлега в ведьмовском доме. Одного раза было достаточно — с тех пор странники и богомольцы обходили проклятый дом стороной; да и свои, местные, без особой нужды тоже не совались… что же он, Анджей, дурнее всех?
Анджей сердито дернул плечом, с трудом отрывая прямо-таки прилипший (может, все таки ведьма?..) взгляд от темного сада за угрюмой решеткой и заставляя себя — с тяжелым вздохом — развернуться назад, к деревне. К разъяренному от ожидания и голода дядьке (гора мускулов на черной от загара, копоти и грязи спине; грохот молота, с уханьем падающего на наковальню; и тяжелый, ничего хорошего не сулящий, рык: «Ты где шаландался, бездельник?!»).
Наверное, все-таки злые собаки пана Владислава тут были ни при чем… как и дурная, ведьмовская слава дома (не то чтобы Анджей вдруг вот так, с сегодняшнего дня, перестал этого бояться… скорее, это все стало просто не важно… не так важно, как раньше). Да и решетка, наверное, тоже была ни при чем… Или как раз решетка-то и…
Вот, совсем недавно они шли по дороге, и Анджей держал за руку маленькую испуганную заплаканную девочку и чувствовал, как ее застывшая (похожая на холодную мертвую рыбку) ладошка согревается и оживает в его руке. И ему нравилось это чувствовать и нравилось идти рядом с ней. Просто маленькая девочка, которой одиноко и страшно — никакая не ведьма, какие дураки это придумали про нее?.. Вот так бы идти и идти — и не оглядываться… В конце концов, что оставалось у него за спиной — мамка и отчим, которым нет до него никакого дела; братец — подлиза и ябеда, тихонько хихикающий в кулак, когда отчим (нередко по наущению того же лиса-братца, своего родного сына) в очередной раз устраивал Анджею взбучку; сердитый кузнец, который только и знает, что орать и давать подзатыльники; пацаны… пацаны, с которыми вместе столько лет и столько игр… пацаны, которые уже давно и так же весело играют в эти игры и без него, Анджея, — с тех пор, как он стал работать на кузнице… пацаны, которые сегодня смотрели ему вслед, пряча в кулаках камни — как будто он был для них чужаком… Все? Все.
Совершенно ничего, ради чего стоило бы возвращаться. Если бы, конечно, ему было куда уйти. Потому что маленькая ладошка выскользнула из его руки (волшебная золотая рыбка, которую ему повезло случайно поймать, выскользнула из ладони и опять растворилась в темной воде…); и тяжелая решетка со скрежетом захлопнулась перед ним, отрезая его от уходящей девочки. И все, что ему осталось — только смотреть ей вслед…
А вечером разозленный (более всего тем, что провинившийся подмастерье даже и не собирался оправдываться) дядька запер Анджея в кузнице — в назидание и с целью наведения порядка на полках со старыми инструментами. Анджей попытался было выбраться — тщетно, потому что запоры на двери и ставнях были крепкими, как и сама дверь со ставнями. Едва не расплакавшись с досады — в том числе и на собственную глупость: это ж надо было притащиться самому к дракону (то есть к разъяренному дядьке) в пасть — и устав от бесполезных попыток выломать треклятую дверь, Анджей задремал-таки к утру на куче какой-то ветоши, сваленной в углу, думая о девочке в белом платье, о сумасшедшей Анне, которая, наверное, сейчас с ужасом смотрела в черный колодец, видимый только ею одной (…нет, не только — еще девочкой, той самой маленькой девочкой в белом платье…) — и о своем обещании. Обещании, которое Анджей так и не выполнил.