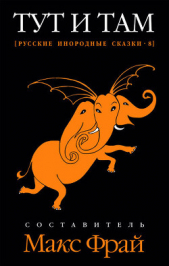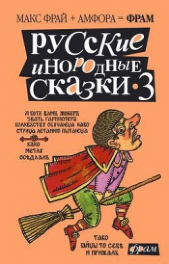Русские инородные сказки - 5

Русские инородные сказки - 5 читать книгу онлайн
Сказки у нас не заканчиваются и никогда не закончатся. Со временем тексты становятся лучше, а авторов — больше, и вообще все только начинается. Всегда, каждый день, в любую минуту все только начинается, а вы и не знали небось.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бобби смотрит в сторону, откуда раздаются приближающиеся голоса людей. Вот уже четырежды Бобби убегал от них и пытался скрыться в джунглях, но его снова ловили и заставляли залезать на пальму и собирать кокосы. Каждый раз одно и то же, думает он, и каждый раз, когда он лезет в банку за вкусным апельсином, его лапа почему-то застревает. И хотя обезьяны не умеют говорить, Бобби кричит, что отдал бы эту злосчастную лапу за возможность оказаться где угодно, только не здесь.
Доктор Виктор Франкенштейн с нетерпением ждет. До завершения эксперимента ему не хватает селезенки, мозжечка, качественного колена и так, по мелочам. У доктора слегка дрожат руки. Уже скоро, совсем скоро у него будет достойный партнер для игры в шахматы и распития утреннего кофе.
Виктория Райхер
В одной из вариаций
Душный воздух тяжелыми волнами ходил над головами. Пары бензина, гортанные крики и дым от сигарет плавились под лучами пятичасового солнца. Очередь на автобус давно превратилась в толпу, автобус не шел, жара и ненависть давили грудную клетку.
Еще чуть-чуть, и он больше не сможет сдерживаться. Перед глазами шли круги. Люди вокруг шумели, вытягивая шеи, боялись, что автобус так и не придет, и не догадывались, что бояться им стоит совсем иного. Обычно все начиналось с тихого гудения в ушах, но шум центральной автобусной станции был так силен, что заглушал любые звуки собственной головы. Крупная девушка в тонком платье качала светло-русой прической. Над ее волосами столбом стоял гнев. Гнев стоял и над головами веселых солдат, курящих одну сигарету за другой, и над очкастой девицей в длинной юбке, и над усталой старухой, держащей на руках двухлетнего ребенка. На ребенка он старался не смотреть. Он смотрел на кареглазую худую женщину с курносым носом и золотистыми кудрями ниже плеч, которая улыбалась двум своим подругам, неинтересным клушам в шляпах. Женщина стояла прямо перед ним и белела ключицами в треугольном вырезе свободной блузки. В одной из вариаций это была его жена.
Он нарочно заставлял себя думать об этой женщине, а не о том, что автобуса нет уже сорок минут и щекотные токи ненависти уже сорок минут сводят в щепоти его узловатые пальцы. У этой женщины были кудри ниже плеч, такая лохматая голова золотистого цвета. Курносый нос и карие глаза. То ли круглые, то ли просто большие. Обычный рот, но весь вид при этом как будто детский, как будто эта женщина не старела, хотя какое там «не старела»: сплошь морщины по лицу. Женщина была немолода, и он понял, что поймал свою случайную жену в поздние годы ее веселой зрелости. Что у нас было, привычно бормотал он, присматриваясь и загораживая толпу от себя самого, что у нас было? Дети? Нет, детей не надо. Не надо детей, этой вечной каторги, вечной судороги тревоги, не надо детей на этот раз. Ну вот и оно, нащупал. Я не хотел детей, а она — хотела, у нее мягкие руки, длинные пальцы и семеро племянников от брата и сестры; она выросла в обширном свободном доме, где дети бегали босиком и клубилась пыль из-за вечно открытых окон; она выросла в этом доме и вышла замуж за меня, потому что я этого захотел. Она прожила со мной семнадцать лет, из них десять — смеясь от моих гримас, а семь — уже не смеясь, и состарилась рядом со мной. Она втирала крем в морщины и носила свободные платья, а меня раздражали свободные платья, потому что ей уже очень давно не семнадцать лет. Меня в ней многое раздражало, но у нее был курносый нос и карие глаза, она смеялась и не уходила довольно долго, пока не ушла. Кажется, потом (он прищурился, всматриваясь, — да, точно), потом она вышла-таки замуж за нормального человека, ей было уже за сорок, но она рискнула родить ребенка, у нее долго не получалось, а потом получилось, родилась девочка, дочка, похожая на ее нового мужа, тихая и сероглазая. Она прожила обычной детской жизнью лет до семи, когда у нее обнаружили странную болезнь: она засыпала. Засыпала и днем, и ночью, засыпала почти постоянно, она жила, засыпая, и никому не удавалось ее разбудить. Она была здорова и ни от чего не страдала, она просто спала и спала, родители отчаялись, таская ее по врачам, и ее мать, его бывшая жена, провела кучу ночей у постели своей абсолютно спокойно спящей дочки. А потом (всматриваться становилось все трудней: гнев давил на виски изнутри, и дыхание прерывалось) они отвели ее к Менахему. Менахем внимательно осмотрел ангельски тихо спящее дитя, погладил девочку по голове и сказал:
— Ей просто не нравится этот мир. Ей интересней тот, в котором она живет, пока спит. Оставьте ее в покое.
Бывшая жена послушалась, и ее сероглазый муж — тоже, они перестали будить свое спящее чадо, только кормили ее, когда она просыпалась, и девочка тихо росла, с каждым годом становясь все красивей в своем спокойном и безмятежном сне. И когда ей исполнилось семнадцать лет…
Гуденье автобусов окончательно заложило уши, и линия прервалась. Он отшатнулся от своей бывшей небывшей жены, закрыл глаза и почувствовал, что давление на грудную клетку становится невыносимым. Духота, сигаретный дым, ожидание и беспомощность сливались в адский коктейль, пить который с каждым разом было все слаще, а переваривать — все сложней. Скорее, скорее, скорее — подпрыгивали люди возле его локтей, и он повторял их подпрыгивания губами: «Скорее, скорее, скорей»; он знал, что еще чуть-чуть — и тяжелый ком удушающей мути начнет выплескиваться из него наружу, зальет стоящих вокруг, рванется дальше — и тогда, если его вовремя не остановят, все эти люди, автобусы, крыша над головами и вообще все это пространство превратится из плотного, нервного, кишащего звуками и испарениями вещества в тот горячий бестелесный мир, где кроме него самого ни одному человеку на свете еще ни разу не удавалось выжить.
Пришел автобус. Пришел автобус, и все задвигались, заспешили, мимо лица пробежал горбоносый солдат, за ним вприпрыжку неслась девица с зеленой сумкой, нужно было заново занимать очередь, потому что старая очередь за сорок минут ожидания превратилась в сплошной муравейник, можно было сглотнуть и бежать, он встрепенулся и двинулся куда-то вправо, стараясь в толпе поменьше соприкасаться с людьми. Приступ угас. Он посторонился и дал пройти невысокой старушке, несущей баул из вишневой кожи. В одной из вариаций это была его мать — его и его младшего брата Эльякима, который родился в тот год, когда весной почему-то не зацвели цикламены.
Просматривать вариации его научил Менахем.
— Уйди отсюда!
Бурое, мертвое, плотное.
— Уйди, я сказал!
Растущее, тяжелое, мертвое.
— Уйди отсюда! Еще раз тебе повторяю! Последний! Уй… ди… от… сю…
Рука замахивается, сжимая пальцы. Я убью его, мама, убью. Мне все равно, что будет дальше; мне все равно, что у меня больше не будет брата. Он сел за мой стол. Он вошел в мою жизнь. Он трахает мою женщину. Он. Мою. Убью.
— Эльяшив, ты сошел с ума, какая женщина, немедленно прекрати! Эльяким, не трогай его, не обижайся, он не подумал, он сейчас извинится. Эльяшив, извинись!
Ушел, хлопнув дверью. Теперь будет полночи бродить по саду, пугая сов.
— Шува, ты где? Шува, я не сержусь на тебя. Вернись.
Это было с самого детства. Когда он видел своего младшего брата, сидящего за их общим — номинально общим — столом, его начинал захлестывать гнев. Он не сердился на брата за сломанные ручки и вырванные листы бумаги, ему было все равно, кто съел апельсин с тарелки. Но сам вид чужого, другого, дополнительного человека, садящего за столом, который он привык считать своим, доводил его до бешенства. Брат тоже считал этот стол своим, но его это не интересовало. Брат не имел никакого права считать своей вещью что-либо из не своих вещей. Он слышал дыхание брата, самостоятельное и непокорное, и его плечи начинали ходить ходуном под майкой. Брат ходил, жил, дышал, у брата было свое имя, свой стул за обеденным столом (это еще можно было перенести), но комнату они делили на двоих.