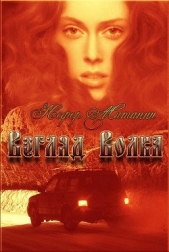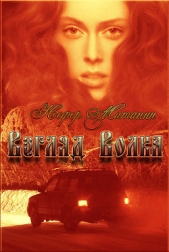Имя твоего волка

Имя твоего волка читать книгу онлайн
Если ты молода, красива и тебя зовут Маргарита, если у тебя есть странные способности, которых нет у других — ты ведьма! А это значит, ты ненавидима и презираема, где бы ты ни жила, в польской деревне позапрошлого века, или в современном городе. Дебютный роман молодой питерской писательницы Татьяны Томах — о тех, кто не похож на других.
Книга издана при поддержке «Новой литературной карты России» и неформализованного Содружества «Новые писатели России».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь, когда она умерла.
И так же, как несколькими минутами раньше, пан Владислав не шевельнулся — как взбунтовавшегося коня осаживая в себе неуместное и нелепое (такое уж нелепое ли — родной брат ведь…) желание.
Он стоял и смотрел, как в один миг ставший похожим на старика бесконечно медленно поднимается брат по этой бесконечной лестнице и как бесконечно медленно закрывается за его спиной дверь кабинета. С сухим противным скрежетом закрывается — чтобы уже не открыться никогда. Потому что это была последняя дверь, которую брат закрыл за собой.
Пан Владислав стоял еще некоторое время, глядя в эту закрытую дверь, слушая глухую тишину за ней и перебарывая третье за это утро нелепое желание — выбить дверь, встряхнуть поникшие плечи брата, сказать… Что-нибудь сказать… только бы не был Стась похож на старика и не был бы таким мертвым его взгляд…
Переборол, как непокорного коня укротил — себя самого, вытянул по взмокшему боку плетью гордости — как, прощенья просить? Ему, пану Владиславу, у брата своего малахольного, дурака и размазни? Да за что!
«Вот после, пускай отоспится с дороги, в себя придет — тогда и поговорим», — как будто в ухо увещевающе шепнул голос старого слуги…
Только ведь не было тогда, на лестнице, старого слуги… Может, и тогда, ночью — не было?.. И нечего сваливать на него, бессловесного старика, не замышлявшего дурного, — то, в чем вина одного лишь пана Владислава. Забияки и лихого храбреца, оказавшегося на деле самым обыкновенным трусом. Дважды трусом. Ночью, перед костром, в котором заживо горела и отчаянно звала на помощь женщина; а потом днем, перед закрытой дверью, за которой — беззвучно теперь, без огня и дыма, сгорал от горя его собственный брат.
Вот так он постоял немного, глядя наверх, в закрывшуюся за братом дверь, не зная, что спустя несколько часов — и до конца жизни — будет проклинать себя за эту нерешительность. И стал медленно спускаться вниз.
На последней ступеньке задержался ненадолго, трогая ладонью рассеянно подножие бесстыжей мраморной девки. Правда, ничего уж такого особо бесстыжего в ней и не было — платьишко разве что коротенькое, в облипку — вроде бы ветром его сдувает, и как натурально сделано — иногда кажется, что и вправду ветром — и самому от этого ветра запахнуться поплотнее хочется… А лицо строгое и глаза прищурены, вглядываются куда-то — как будто мраморная девка, пытается разглядеть что-то впереди — очень далеко. Хотя, если даже и умела бы она видеть своими каменными глазами, ничего, кроме изнанки парадной двери да кусочка двора, разглядеть бы не сумела.
«Дура ты», — зачем-то сказал ей пан Владислав, тоскливо и досадливо глядя на спокойное мраморное лицо, белые, плотно сжатые губы, уголками загибающиеся в еле заметную улыбку, и слепые глаза, напряженно смотрящие в никуда. И едва сдержался, чтобы не сорвать со стены парадную, в золоченых ножнах, дедову саблю, и не рубануть с плеча по насмешливо-невозмутимому лицу треклятой каменной бабы… Стоит вон так же, как и вчера, улыбается… И ее белое, гладкое, красивое тело не скорчилось, не превратилось в черный сухой пепел — как у той, другой, золотоволосой и зеленоглазой…
«…Вот, брат, гляди, — пан Стась смеется и за плечо ласково полуобнимает брата, и Владислав непривычно близко видит его незнакомо веселые, счастливые глаза. — Гляди, я двух богинь привез с южного моря. Одна мраморная, а другая живая».
И смущенно смеется, и выскальзывает из-под его руки та, про которую он говорил, смуглокожая и золотоволосая, с сияющими, как драгоценные камни, глазами; а другая, мраморная, снисходительно улыбаясь, величественно плывет мимо на плечах тяжело пыхтящих, сгорбившихся мужиков. «Стойте, стойте, вот сюда, возле лестницы», — командует пан Стась, обрывая восхождение стройно-белого совершенства; а вежливо и слегка растерянно согнувшийся в поклоне Владислав чувствует в своей ладони и возле своих губ тепло и дрожь тонких пальцев, слабо пахнущих чем-то нежным, головокружительно-знакомым (…цветы на лугу, пряный душистый аромат жаркого июньского полудня, звенящая невозможная глубина безоблачного неба, которое вдруг опрокидывается на тебя, когда ты, хохоча, падаешь в мягкую траву; еще-еще — прохладная нежность маминых рук на горячем лбу… неожиданное прикосновение детства — мама умерла уже столько лет назад…).
«А вы его брат… Мне Стась рассказывал…» — голос улыбающийся и приветливый, с легкой картавинкой иностранного акцента, и теплая ладонь, нетерпеливо ускользающая из его ладони…
«Простите», — неловкое, еле слышное — только ей, причем тут Стась? — извинение — за губы, слишком долго и жарко прижимавшиеся к руке; за пальцы, слишком сильно сжимавшие узкую ладонь; за взгляд, слишком жадно…
Владислав распрямился. Растерянный, ошеломленный, почти захлебнувшийся в бездонной, невозможной глубине опрокинувшегося неба…
«Пойдем, я покажу тебе дом», — сказал Стась привычно и ласково, по-хозяйски (так, как никогда не будет позволено Владиславу) обнимая ее за плечи и уводя вверх по лестнице. И качнувшийся было следом за ними, Владислав сердито оборвал свой шаг, понимая, что ему — отныне и навсегда — остается только смотреть ей вслед. Ей, уносящей в своих нежных ладонях запах его детства и лета; в пушистом облаке волос — сияние его солнца, в глазах — головокружительную высоту его неба…
Третий слог
Головокружительная высота неба все падала и падала на него, и холодные ощетинившиеся звезды больно, до слез, кололи глаза.
Или это он падал — в головокружительную высоту? В оскалившуюся звездами бездонную черную пасть. Падал, беспомощно растопырив свои сильные напряженные лапы. Пытаясь удержаться. Зацепиться, порвать когтями звездно-хохочущую черную пустоту. Падал, беззвучно воя — от ужаса, отчаяния и одиночества.
Пахнущая влажными листьями земля — такая твердая, надежная — неожиданно порвалась под лапами. Расползлась гнилыми ошметками над жадно оскалившейся бездной. И в этот миг он вдруг оглох и ослеп. И, кажется, онемел. Горло, содрогаясь от крика, воя, хрипа, не издавало ни звука.
Он остался один.
Он пробовал звать — ту, что всегда была рядом… Нет, не рядом — ближе. Так близко, что теперь, без нее, он не умел ни слышать, ни видеть, ни кричать. Вообще не умел — быть.
Он пробовал звать, но она не отзывалась. А потом он понял, что ее больше здесь нет. Может быть, она там — внутри хохочущей бездонной пустоты. Глубоко, очень глубоко. На дне, которого нет.
Тогда он прыгнул. За ней. В невидимую, неслышимую и не пахнущую пустоту. Прыгнул, не задумываясь и не медля. Так, как прыгнул бы за ней куда угодно — в неизвестность, в страх, в безумие, в смерть.
Он прыгнул — на черный загривок пустого зверя, и вонзил клыки в запрокинутое горло хохочущего неба. Небо разбилось — в звездные осколки. Горло неожиданно оказалось податливым и мягким, попыталось вывернуться — всего один раз, бестолково и слабо; и, сжавшись от страха, захлебнулось собственным криком и кровью. Такой теплой и сладковатой на вкус… Как у нежного перепуганного олененка…
А небо опять засмеялось, сухо и звонко хрустя под лапами блестящими острыми осколками звезд…
— …Третий слог… третий слог имени твоего волка…
— Ты отдохни. Ты ведь уже устала говорить, да? Отдохни.
Марго шмыгнула носом. Нагнулась, поправляя скомканное беспокойной старухиной рукой одеяло, и быстро стерла сползающую по щеке слезу. Она не хотела, чтобы старуха видела ее слезы. Не потому, что нет ничего глупее, чем плакать; а потому, что слезы — это бессилие и безнадежность. Человек плачет только тогда, когда он уже больше ничего не может сделать. С тем, что уже произошло. Или еще только происходит. Так, наверное, еще хуже — смотреть, как ЭТО происходит, и знать, что ты ничего не можешь сделать. Только смотреть.
Марго не хотела, чтобы умирающая старуха видела ее слезы.