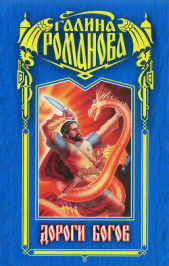В канун Рагнарди

В канун Рагнарди читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но кто это вцепился в плечи, в руки? Почему двое урманов оттаскивают назад своего?
Поединок окончен. Поединщики оказались равны, и боя не будет, не будет больше крови между своими и этими... Сегодня и здесь.
И был вечер, и горели на диком, безжизненном берегу костры (свой и чужой), но нашлись такие, кто подходил к чужому костру — не для драки, для разговора; и нашлись урманы, приходившие говорить к новогородцам. А потом было серое, туманное утро, и ледяная свинцовая вода была по грудь, и ноги скользили по предательскому каменистому дну, и руки переставали чувствовать от холода и усталости, но лодья ползла на глубину — тяжело, неохотно, но ползла, а урманы сгрудились на берегу и не мешали.
А потом паруса тяжело развернулись на скорой рукой починенных мачтах, и все — урманы и берег — кануло в тяжелый белый туман...
Это было давно, но тот, который я, помнит все, будто только вчера лопались от яростного рыка кровавые пузыри на этих губах, ведущих нынче учтивые речи:
— Наш спор не окончен, витязь. Мы испытали силу друг друга борьбой с бешенством моря, испытали и ратным железом. Силы были равны. Но осталось еще одно испытание — кубком хмельного вина. Пойдем, витязь! Я гость твой в этом городе, будь же и ты моим гостем на нашем торговом подворье. Пойдем, сразимся в последний раз, и если вновь не сумеем мы одолеть друг друга — смешаем кровь, обменяемся именами и станем братьями!
И снова — мороз и ночь, снова скрипит под ногами снег, а улочки, тонущие в снегу и во тьме, тянутся, вливаются в новые, сплетаются в странный, но знакомый узор под бесстрастными белыми звездами; и редки черные силуэты людей, но и это малое их количество непомерно для зимней ночной поры, и город кажется непривычно оживленным, потому что — праздник.
А потом была калитка урманского гостевого подворья — крепкие доски, кованные тяжелой медью. Она натужно скрипела, трудно поворачивалась на вымерзших петлях, и в открывшейся за ней черноте замаячила фигура бронного урмана в заросшем мохнатым инеем шлеме, коченеющего в бессмысленном карауле.
А потом — мимо длинного ряда заваленных снегом лабазов, в двери, в темень и снова в двери, за которыми тусклый свет, протопленная до духоты тесная горница, ломящиеся столы и хриплый приветственный рев десятка хмельных глоток.
И был говор, и грохот посуды, и песни — странные, печальные, протяжные и исполненные яростного веселья, перемежающиеся хриплыми воплями.
И были пляски, здесь, в тесноте. По очереди, по одному выходили урманы и, почти не двигаясь с места, всплескивались вдруг бешеными высверками тяжелых широких клинков, сжатых в обеих руках, растворялись, тонули в неистовом мельтешении железных сполохов под ритмичные вскрики прочих.
А тот, меднобородый, сидел напротив, и отсветы холодного железа и теплых огней вспыхивали-искрились в его потемневших глазах, и он смеялся, говорил что-то, подливал хмельного равно с собой. И хмельное бродило в крови веселым буйством, играло шутки, и широкое лицо напротив вдруг расплывалось, теряло четкость, тонуло в теплых сумерках, заволакивающих глаза, чтоб через миг вынырнуть вновь...
Тот, которым стал я, не заметил, как, почему мертвая тишина повисла в горнице, но, вдруг осознав безмолвие вокруг, мгновенно очнулся от хмельной полудремы, метнул настороженный взгляд по сторонам, готовый ко всему.
Новое лицо. Будто порожденное морозом и снегом, которые там, за стеной. Прозрачные голубые глаза, холодные, глядящие поверх и сквозь, словно глаза хищной птицы. Резкие костистые черты, впалые бледные губы, едва заметные на белой коже лица. Волосы — длинные пряди льдистой, искристой синевы.
Говорит. Нет, поет медленные выспренние рулады, поет высоким, старческим, но на удивление чистым голосом. Скальд? Да. Замолкли пьяные, внимая волшебству слов, не скрипнет, не стукнет вокруг, даже трескучие огни масляных плошек будто притихли, боясь помешать.
Есть ли музыка в грохоте прибоя, в протяжном переливчатом вое пурги? Если есть, то именно она звучала в этом странном напеве — без рифм, без мелодии...
А тот, который я, не отрываясь смотрел на своего рыжебородого соседа, как он медленно поднимается из-за стола, щурит недобро глаза, перекатывает по скулам тяжелые желваки. И вдруг каменный кулак его врезался в стол под треск дерева и звон посуды, и дрожащий от ярости голос перекрыл пение скальда сорванным рыком:
— Я, Гунар из Эглефиорда, прозванный Ротвулфом, я, носящий знак Белого Бога, знак креста, говорю тебе, безумный старик: замолчи, собака, или я забью тебе обратно в глотку твои богохульные песни вместе с зубами!..
Скальд глянул невидяще и вдруг так стремительно взбросил руку к лицу рыжебородого, что тот отшатнулся. И старик заговорил бесстрастным звенящим голосом волхва-вещуна:
— Ты, предавший своих богов, не с тобой говорю я теперь. К вам обращаюсь, о дети Вотана, люди земли фиордов. Не слушайте лживое карканье иноземных воронов в черных одеждах. Они говорят: «Ваши боги кровожадны и злы». Но помните: это — наши боги. Они говорят: «Ваши боги безобразны». Но помните: это — наши боги. Они говорят: «Ваши герои — убийцы». Но помните: это — герои нашей земли, отцы и деды наши, породители наши. Спросите жрецов креста: «Разве ваши боги не учат сражаться за своих отцов и за веру своих отцов? Если нет — для чего нам такие боги?»
Белый Бог прекрасен лицом и речами, но он чужой в земле фиордов, его правда — чужая правда, его воля — чужая воля, его доброта — чужая доброта; а чужая доброта — зло, так было и будет. И если иная правда нужна нам, ее подарят нам наши боги. Подарят — не продадут.