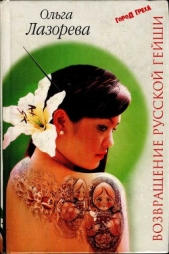Геи и гейши (СИ)

Геи и гейши (СИ) читать книгу онлайн
Говорят мне и повторяют, что пишу я исключительно и типично дамские, иначе говоря, женские романы. Немудрено: ведь, в конечном счете, я и сама есть какая-никакая, а женщина. Впрочем, понятие женщины как "слабой", "прекрасной", "лучшей", "греховной" и пр. половины человечества в нынешние смутные времена сделалось довольно-таки расплывчатым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сакральный знак — Хлеб
Афродизиак — мята перечная
Цветок — королевская лилия
Наркотик — книжная пыль
Изречение:
«…Кто вдохнет в нас дыхание духа?
Кто нагонит горячей крови?»
«Вот кровь; — она живая и настоящая!
И семя, и любовь — они не призрачны.
Безглазое я вам дарую зрение
И жизнь живую и неистощимую».
Михаил Кузмин
— Вы делаете что-то не такое, — сказал после паузы священник. — Неположенное. Хотя, впрочем, с такой хлопотной жизнью, как у меня, немудрено живого с мертвым спутать. А вы… Погодите, вы же собственно, вообще между царств обитаете. Как я этого сразу не унюхал!
— Вы унюхали, а я еще нет.
— Как, кстати, невежливо, что я вашего имени не знаю. Кем вас крестили?
— Вроде Владиславом или Владимиром. В паспорт я давненько не глядел и с успехом пользовался первым слогом.
— Влад. Прекрасно! А я Мариана, отец Мариана. Назван в честь того иезуита-тираноборца, который первым в Европе обосновал законность цареубийства с христианской точки зрения.
— Ни фига себе. Как это он умудрился!
— Да вот исхитрился — и доказал. В братстве Иисусовом много было таких рисковых идеалистов.
— Вы тоже, по-моему, из их числа. Ночью да в погибельном месте…
— Ограды надо восстанавливать, упавшие кресты воздвигать, кусты на бесхозных могилках прорежать, а заодно прихватить и хозяйские. Завтра у сестринской религии родительский день ожидается, так что свежие захоронения будет кому обиходить, но ведь всё равно им приятно, когда порядок.
— Так вы католик?
— Ах, да конечно. Вы так это интонировали, будто я оборотень какой-то или перевертыш — впрочем, насчет последнего вы правы, да и о первом в какой-то мере догадались. Был отроду крещеным, да неверующим, а когда конкретно осенило, сменил данное мне от рождения клеймо на иное…
— В самую пору вам, выходит, в полнолуние среди оборотней и вампиров работать. А также благословлять шизанутых и крезаных.
— Что и делаю, — кратко сказал Мариана.
— И как это вы влопались в чужую веру?
— Хм. Это почему — в чужую? Вера, уж если в нее пришел, всегда твоя собственная… А вообще долгий разговор у нас начался. Впрочем, ночка славная, ветер мягкий, звездочки… и до полной луны еще ой как далеко… Если позволите, поведаю я вам историю моего обращения. Не в чью-то там, повторяю, иную веру — веры у меня до того не было никакой и ни во что — а в свою единоличную, шитую на меня одновременно впору и на вырост. Я, кстати, парадоксалист, привыкайте.
И он рассказал краткую повесть, которую мы решили назвать -
ИСТОРИЯ О СУДЬБОНОСНОМ ПОЖАРЕ
Случилось это во время пожара ОВД в городе Саморе: громкое было дело, хотя вы сами вряд ли успели там ухватить лакомое зернышко — всем местная братия попользовалась. Напомню: случилось это как раз тогда, когда младший состав решил работнуть сверхурочно по случаю отбытия старшего состава с бабами в театр. Поэтому ближе к вечеру все папки из сейфов разложили на столах и ими загородились. По папкам и полыхнуло — очень уж горячий материал там оказался, ну, вы меня понимаете. Или нет: сначала вообще-то белый дымок глаза щипать стал, едкий и незаметный такой. Стены были внутри полые, с утеплителем, и тогда уже были полны огнем доверху, а мы-то считали, что это в одном из отделов шашлык подгорел. И вот тут сразу — и на столах пламя, и на полу, рук касается и в затылок дышит, а мы знай выбрасываем папки в окно, на мокрый снег. Ценность ведь — знаете, сколько по ним можно было расстрелять и посадить! Потом стали выбрасываться поверх них сами, как те челноки-погорельцы на турецком постоялом дворе поверх своих тюков… вот это вы наверняка описывали. Только тюки были мягкие, а наши папки — из дубового картона. И вообще припозднились мы: ведь наши собственные жизни принадлежали только нам, а бумаги — самому государству.
К тому времени, когда ждать внутри было уже никак нельзя, и пожарные как-то подоспели. Ну, когда я падал из окна, как птенец из гнезда кукушки, — точно знал, что разобьюсь: внизу асфальт, а у них на всё про всё один шланг, ни лестниц, ни брезента, ни даже воды нет. В такие мгновения полагается вспомнить всю твою бестолковую жизнь. Ведь человек, говорят, — он вроде дискетки одноразового пользования, и тому, кто заинтересован в считывании накопленной информации, приходится непременно ее взламывать. Вот процесс такого аварийного пользования ты и чувствуешь. Не знаю, право: по крайней мере, с меня вышеупомянутый «тот» получил только сомнительной достоверности повестушку, вроде бы по Александру Грину, хотя в таком виде я ее потом не нашел ни в одном его собрании, как ни старался. Речь там шла тоже об окне. Вот так и назовем это неожиданное вкрапление в ткань моего рассказа:
НОВЕЛЛА О ЗАНАВЕШЕННОМ ОКНЕ
Компания приятелей, может быть, та, что окружала Доброго Богача, а, может быть, кормящаяся от щедрот Злого, — вы же знаете гриновские проходные персонажи — побилась о заклад с одним человеком своего круга, и вот в чем заключалось пари. Его под воздействием сильного наркотика должны были привезти в некое место и оставить там в комнате с наглухо закрытыми окнами и дверью, защелкнутой лишь на легкий внутренний замок. Внутри было также все необходимое для краткого пребывания. Однако он не смел ни пытаться выглянуть в окно, ни напрягать свои чувства в попытке догадаться о своем местонахождении, ни, тем более, выйти наружу — это фиксировали невидимые ему наблюдатели, пари объявлялось проигранным, а он предоставлялся своей собственной судьбе. По истечении суток этого человека должны были так же тайно усыпить снова и отвезти обратно. Пари — а выигрыш, в отличие, кстати, от проигрыша, заключался в денежной сумме, весьма округлой и приятной, — не требовало, таким образом, ни совершения подвигов, ни мало-мальской жизненной активности, но, напротив, отказа от них, а также от малейших проявлений любопытства и иных эмоций по поводу своего добровольного плена.
Ну вот. Очнулся он ясным днем в стандартном гостиничном номере средней руки. Конечно, ни телефона, ни телевизора и тем более компьютера со входом в Интернет там и в замысле не было: ведь все это такие же окна в мир. Все рамы были затянуты тканью вплоть и без единой щелочки, однако ткань была светлая. (В детстве я видел в нашем поселке домик из потемневших бревен с точно такими же окнами и воображал, что там и стены тоже матерчатые и по всем им — пучки сухих трав; но домик разрушили прежде, чем я смог увериться в своей правоте.) Через ткань или некую невидимую щель проникали солнечные лучи, играли в старомодном фаянсовом тазике для умывания: вода в нем была чуть голубоватая, а на стоящем тут же пузатом кувшине были нарисованы лиловые подснежники и черемуха. Многочисленные отражения солнца в прохладной воде сплетали на потолке и стенах переливчатую сеть из золотых чешуй и радужных бликов, которая ритмично покачивалась, будто люлька или гамак.
А снаружи доносились манящие звуки большой жизни: ровный, разноликий гул голосов, рокот моторов, шелест шин, позванивание колокольчиков, стук копытец и каблучков. В нем можно было прочесть самые разные вещи, но все они подчинялись единому ритму и сплетались с мелодией, которая сама не была слышна, однако проявлялась во всех звуках и особенно когда прочие шумы утихали — как бы за их границей. Ритм накатывался волнами, мелодия же была как пребывающее вечно море: но то было не настоящее водное море, о котором наш человек знал всё.
Больше ничем не выдавал себя тот мир — даже запахами. Правда, внутри четырех стен витал как бы летучий призрак сандала, еле слышный и все же несомненный.
Здесь было так много молчания, так ровна и постоянна была внешняя жизнь и так изменчива в своей простоте жизнь внутренняя, что до нашего героя постепенно стало доходить. Он почувствовал (с силой, равной уверенности, как говорил тот же Грин, хотя, пожалуй, в совсем другом месте), что наружи — совсем иное, чем внутри. Что, отвори он сейчас ту дверь — и выйдет не к тем звукам, музыке, запаху и веяниям, какие есть продолжение комнаты, а лишь ко внешне и грубо им подобным; и, наоборот, вознамерься он поворотить назад, сама комната станет иной, принадлежащей тому грубому миру, в который он по своему недомыслию окунется. Что он случайно и вовсе не по замыслу тех, кто ради забавы манипулировал с ним, превратив его в дорогостоящую игрушку, оказался на пороге двух разных сущностей, и нельзя перейти невидимую границу так вот прямо, просто и нерушимо.