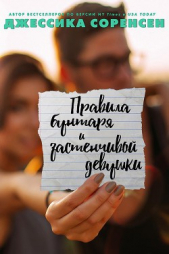Орфей

Орфей читать книгу онлайн
Игорь — известный писатель, автор скандального романа о коррупции в верхах, дает себе слово никогда больше не браться за перо, потому что все, однажды придуманное им, вдруг начинает сбываться: падают самолеты, горят автобусы, умирают люди. Став предметом пристального внимания спецслужб, он попадает в «зверинец для пара-нормовв. Но с трудом верится в то, что колючая проволока секретного «Объекта-Зб» должна лишь стать страховкой от «сюрпризов», исходящих от необычного писателя. Скорее всего, кто-то захотел «по полной» использовать его смертельно опасный дар.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В школу он был отдан с шести лет, первый экспериментальный набор. По окончании, также на год раньше, это давало ему шанс до армии «остановиться, оглянуться». Экспериментальный набор, экспериментальный класс, экспериментальный народ. Человеческий фактор для исторических опытов. Странное время…
Остановившись и оглянувшись, он заметил вокруг себя множество забот. Не «проблем», нет, это словечко тогда было еще не в ходу. «It's your problems» — так будут говорить позже, а тогда это были просто заботы. Скажем, те же штаны, не устававшие протираться. Джинсы-куртки, шузы-сумки, очки-пакеты… В истории Отечества билось-пульсировало последнее десятилетие дефицита как социально-философского понятия. Зато водка и продукт, называвшийся портвейнами разных сортов, лились рекой.
Материальные заботы, заботы тела, пришлось решать путем вступления на рельсы неформальной экономики, которая неграмотно клеймилась мелким спекулянтством, но которой были заняты опять-таки все. Под жестким прессингом родителей своих родителей он поступил в институт чего-то там, а родители разошлись в год его окончания школы и разъехались по новым семьям, оставив в результате многоступенчатых обменов целую большущую комнату в квартире с одним, вечно в нетях, приличным соседом.
Ситуацией не преминуло воспользоваться буйное студенческое братство, и поэтому стройная последовательность этих лет несколько размыта. Новый год (который?), в его комнатенке человек двадцать пять, стекло хрустит под ногами, и загорелась елка. Стипендия, стипуха-мама. «Пивка для рывка, и на малину к корешку нашему!..» «Мамаша, для начала — семь по два сорок семь!» «Мужики! Ударим по пельменчикам?..» Сколько, по-вашему, на обыкновенном молодом человеке, одетом в куртку и под ней костюм, может уместиться бутылок, так чтобы снаружи было не слишком заметно? Ну, сколько, сколько?.. Фигушки — двадцать девять. Зарегистрированный факт. «Картошка» — на третий день ему проломили голову лопатой в драке с деревенскими. Девочки. Та, другая, пятая. Две сразу, любительницы. «Але? Чего делаешь? Ну, подъезжай, я тут с чуваком, нам третьей не хватает, «шведочку» разыграем…» Весело жилось.
Тесные дни были заполнены до отказа, но при том не оставляло ноющее, как зуб, ощущение какой-то неправильности собственного бытия. Ощущение лежало вне привычных, обыденных мерок. Если бы он тогда знал это слово, то назвал бы его метафизическим.
Он живет не как ему должно
Не умея пока выразить это глухое чувство словами, он прятался за штамп: это что ж, вот так проваландаюсь пять лет, там — диплом, там — работа, там — семья, в смысле пеленки-распашонки и прочее, и все?! Нет, это было явно не то.
Он был молодой и глупый просто. Но в том и штука, что это было не просто не то, а — не то.
Выход открылся вдруг даже не слишком с неожиданной стороны.
Еще в «школьные годы чудесные» у него получались приличные сочинения, некоторые иногда зачитывались их русичкой по прозвищу Граммофон перед всем классом. Он выбирал свободные темы, а от заданных старался отвертеться, потому что обычно не читал того, о чем надо было писать. Ему нравилось придумывать, а потом описывать. Да и после школы, остановившись и оглянувшись, между веселыми делами сочинять не перестал. Постепенно насочинялось много. Он подумывал взяться за это дело всерьез и под такие мысли бросил институт «чего-то там» в середине третьего семестра, потому что там было муторно из-за множества заданных тем. Легкость, с какой оставил идею о высшем образовании, объяснялась еще и тем, что за период роста организма в нем открылся некий сложный сердечный недуг Он недуга не ощущал, но в армию все равно было не идти. Как раз, кстати, начиналась Афганская война, и двое его одноклассников не вернулись — один из первой трагической волны вторжения, а другой — после катастрофы на перевале Саланг.
Писательство, рассуждал он, дело прибыльное, надо только попасть в струю. Что такое «попасть в струю» в то странное время, он, по молодости, не понимал, и это его уберегло. Или, если хотите, сгубило. Тлетворный сладенький запашок возможной известности его коснулся слабо. Впоследствии, читая биографии разных известных личностей, он недоумевал, откуда у них был этот зуд — непременно увидеть свою фамилию напечатанной. Нет, это все, конечно, хорошо, но вот гонорарчик, он как-то более. То есть пока ему виделось лишь продолжение борьбы с заботами.
Жизнь опять была тесна После ухода из института он где-то работал, через день или как. Три или пять лет прошло. В промежутках он женился и разводился, вновь оказываясь в своей комнате в квартире с одним вечно исчезающим соседом.
Некоторые из сочиненных вещей получились достаточно яркими, чтобы быть замеченными, но в то же время не режущими глаз, что позволило им увидеть свет. Симпатичная фраза, правда?
Новые друзья в новых компаниях на пирушках, посвященных чьим-нибудь случайным деньгам, упорно называли его сочинения гениальными. Это льстило, но он больше прислушивался к тем, кто цедил как бы нехотя: «Н-ну, любопытно, любопытно…» Мол, что ты, голубчик, еще выдашь. Он старался, выдавал.
К жизненным составляющим прибавились хронические долги, что также служило пищей для души и ума.
О душе. Держать ее подальше от высокого и неведомого было полезно и удобно для работы. Да, имеются школьные «вечные» вопросы, список которых, как на шпаргалке, стоит перед глазами, но имеются также и вопросы «невечные». Именно они помогали больше всего. Опусы, рождающиеся благодаря им, про себя он называл «семечками». Но покупали их хорошо. Как, собственно, семечкам и положено. Однако, видать, была в нем некая искра, они получались у него добротными и даже не очень плоскими. Ровно настолько, что редакторы дружно одобряли, брали, пусть не все, но кое-что, и дружно звали приходить еще. Он, не нюхавший как следует редакционных порядков своего странного времени неофит, даже всерьез засомневался, а существуют ли на самом деле эти два монстра — Редакторский Произвол и Цензурная Стена, о которых в произвольных нецензурных выражениях говорилось в новых компаниях новыми друзьями?
Как ни считать, а все это было детство и, вне зависимости от скоропалительных женитьб, юность.
Все быстрее скакали цифирки на табло, бежали по золотым усикам электроны, в скорости света прибавлялось нулей. Мир приобретал иные краски, неудержимо накатывалось то, что давным-давно названо Ее Величеством Судьбой.
И в один из дней он горько пожалел, что никогда не верил в Бога. В одного — или многих сразу, все равно.
Еще более странным было то, что я проспал. Краешек солнца сквозь перекрестье рам добрался до трехтомника Монтеня на третьей снизу полке, а значит, — четверть восьмого. Как это я так?
Я вспомнил имя, которым мне представился Кролик. Михаил Александрович Гордеев, вполне нормально. Вряд ли настоящее. Гордеев перелистывал снятую с полки книгу.
— «Сперва металл на тяжесть ты попробуй. Затем взгляни на блеск. Затем на зуб возьми. И лишь пройдя три испытанья, он золотом назваться может». — Он взглянул на меня, проснувшегося, поставил книгу на место. — Интересные стихи.
— Почему вы меня не разбудили?
— Сам только глаза открыл. Хорошо у вас спится. Спокойно, В деревянных домах всегда так.
— Не всегда. — Я прикусил язык. Нечего с ним разговаривать, с Кроликом. Я все еще находился во власти удивительного сна. — Как поедем? И когда? На утренний мы опоздали, теперь до восьмичасового ждать. Выходить в семнадцать. На всякий случай.
— Ну, зачем же нам ждать, — добродушно сказал Гордеев. — Ждать — что может быть хуже. Только догонять…
Он вытащил из внутреннего кармана своей лайковой куртки плоский приборчик, нажал несколько кнопок. Ага. Угрюмо хмыкнув, я пошел на крыльцо. Вернулся, умытый, а Гордеев вновь стоял у полок.
— «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг — конца не будет, а много читать — утомительно для тела», — процитировал он из мягкого томика с папиросными страницами. — Прекрасный девиз для литератора! И закладка здесь, смотрите-ка. Перечитываете на сон грядущий? Для укрепления?