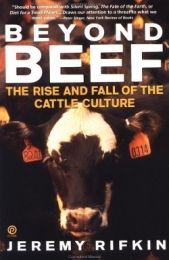Очаги сопротивления

Очаги сопротивления читать книгу онлайн
Впервые на русском языке издается популярный американский писатель Уильям САНДЕРС, автор более чем 70 книг, массовыми тиражами изданных в США.
… Америка под властью диктатуры. Пустыни — места ссылок для недовольных, бунтарей и обывателей, подвернувшихся под руку. Но в этом американском Гулаге есть люди, способные к сопротивлению… Однако их бунт приводит к катастрофическим последствиям…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мебели в камере не было, если не считать единственного лежака в виде полки, прочно встроенного в стену, и фаянсового унитаза без сиденья, над которым — кнопка смыва из нержавейки. Над плинтусом находилось несколько розеток без пояснительных надписей. Где-то в потолке был вмонтирован динамик, но его заметно не было.
Вскоре после прибытия Дэвида в комнату через стеклянную дверь вошла фигура в причудливом одеянии из серебристого пластика. Одеяние покрывало человека с головы до пят; нельзя было даже сказать, мужчина это или женщина. Голос из динамика велел Дэвиду снять мантию и сандалии, которые безликий пришелец подобрал и унес. С той поры Дэвид был голым, но в конце концов сам об этом и забыл.
Та фигура в скафандре, или какая-то другая похожая, три раза в день приносила ему питательную, хотя и пресную, пищу на пластмассовом подносе с гибкими пластмассовыми ложками. Большой пластиковый кувшин воды, до противного безвкусной — похоже, дистиллированной — заменялся каждое утро и вечер. Перед завтраком подавались также пластмассовое ведро тепловатой воды, малюсенький пакетик с жидким мылом и полотенце, ну и как положено, рулончик туалетной бумаги.
Всякий раз по окончании еды или мытья та же фигура педантично помещала всякий предмет, которого касался Дэвид, в большой пластиковый мешок, который запечатывался любопытного вида застежкой и упаковывался в другой мешок. Лишь когда запечатывался второй, стеклянная дверь отъезжала в сторону, давая пришельцу дорогу.
Временами комнату наводняли люди в одинаковых одеяниях и проводили различные тесты приборами, которые подключались в розетки над плинтусом. Это были, по всей видимости, только сенсоры; само оборудование должно было находиться в другом помещении. Некоторые тесты узнать было легко: щупик под язык, измерить температуру, широкая лента вокруг руки, проверить давление и пульс; в основном же манипуляции ни о чем не говорили.
Сделали и несколько инъекций, и сколько-то раз взяли кровь на анализ. В таких случаях за дело брались три пластиковых фигуры; двое держали, а один в это время вводил иглу. Опять же все, что касалось тела Дэвида, тщательно паковалось в двойной мешок.
Всякий раз в момент прихода или ухода фигур в скафандрах раздавался упругий шипящий звук, доносящийся сквозь стеклянную дверь. Очевидно, процедура деконтаминации, чистки.
Первые пару дней Дэвид затравленно шагал из угла в угол или пытался бежать на месте, но всякий раз, едва начинал проступать пот, скрытый динамик приказывал остановиться. Когда он попробовал отжиматься, голос очень резко предупредил, что если такое будет продолжаться, его, Дэвида, зафиксируют. После этого Дэвид вынудил себя утихомириться: и так жизни никакой, а тут еще привяжут к лежаку.
Однако со вчерашнего дня Дэвиду отчего-то расхотелось упражняться; вообще что-либо делать; только лежать. Вначале он счел это за апатию, но затем почувствовал легкий озноб, хотя в комнате постоянно стояло приятное тепло; Дэвид завернулся в единственное тоненькое одеяльце и дрожал.
Озноб достаточно скоро прошел, однако за ним последовал другой, дольше и глубже — ночью; пробудившись же поутру, Дэвид обнаружил, что простыня сыра от дурно пахнущего пота. Лихорадило его попеременно весь день; озноб сопровождался легким тошнотным головокружением, вдобавок появилось покашливание, и слегка саднило в груди.
Дэвид, разумеется, знал, что он почти наверняка обречен. По-прежнему было не ясно, каким образом и когда именно они успели это сделать, хотя какая, в сущности, разница.
Неожиданно открылось, что знать об этом не так уж и страшно. В целом это оказалось даже легче, чем тяготиться ожиданием и неизвестностью. Бояться не было смысла (хотя, может, странную эту мысль нагнетал вживленный в тело зародыш смерти).
Наконец Дэвид вновь почувствовал в себе нарождающийся гнев; стойкую холодную ярость, от которой душа обмирает в желании хоть как-то бороться, пока есть еще силы. Гнев вскипал не из-за того, что с ним сделали, нет; его подхлестывала сама атмосфера этого места, то, к а к все было обустроено.
Вспомнилось, что в Блэктэйл Спрингс устраивалась иногда показательная экзекуция: заключенных выгоняли смотреть как пороли (а один раз, так и расстреляли) нарушителя, с тем, чтобы наглядно показать, что бывает за нарушение режима. Здесь, подумал Дэвид, в подконтрольную среду помещают твой организм, и расходуют его по своему усмотрению, наблюдая за результатом. То, что это — человек, виновный или не виновный, абсолютно не имело никакого значения и никого здесь не трогало.
Да не обидится на меня смиренная квакерская тень моего отца: Боже, прокляни их, ибо они точно ведают, что творят!
Джо Джек- Бешеный Бык вытащил свой спальный мешок наружу и расстелил под деревом на небольшом отдалении от барака. Он знал, что спать предстоит недолго; их группе надлежит выступить раньше остальных, чтобы занять позиции еще до света. Да спать он толком и не собирался: слишком уж разбирали мысли о предстоящем дне.
В свои двадцать три года он успел навидаться, как соплеменники, меняя традиционный облик цветастых, немного абсурдных музейных экспонатов, переезжают и перевоплощаются в обитателей городского дна, одинаково презираемых и белыми и меньшинствами, с которыми приходится состязаться за черную работу и убогое жилье. Резервации одна за другой исчезали, в большинстве продаваясь или сдаваясь в аренду частным фирмам или под военные базы; правительство больше не признавало уже самого существования каких-либо племен. Новая Конституция особой статьей предоставляла «полное гражданство» коренным жителям, что в принципе означало: «Краснокожие, на четыре кости».
Думая о завтрашней схватке, Джо Джек ощущал в себе понимание, отчего его предки с таким пламенным энтузиазмом шли за людьми вроде Феттермана и Кастера. Понятно было, что в конечном итоге ни к каким особым переменам это не приведет, но, Боже, как прекрасен сам момент порыва!
Совершить бы сейчас традиционный обряд с амулетами, когда воин готовится к бою, но увы, сказать по правде, Джо Джек не знал, как это делается. Дед у него умер в тюрьме, дожидаясь суда за убийство начальника полицейского участка (Джо Джек тогда был еще младенцем), отец же с матерью вступили в фанатичную секту пятидесятников и предали анафеме все «языческие» ритуалы. Да и вообще, могут понять не так, закружи он сейчас по лагерю с пением да пляской.
Чего ему хотелось, сказать по правде, так это женщину. Неважно какую. Мужчина, которого с часу на час будут пытаться убить чужаки, уж ни за что не будет сдерживать в себе неуемное желание. Ведь речь тут даже не о традиционном поезде переселенцев, где женщины пугливо затаясь ждут, что их вот-вот употребят краснокожие бестии; а там, поди, и нет никого, кроме какой-нибудь шестидесятилетней беззубой аптекарши, да пары санитаров-«гомиков». Ох, уж он им устроит бучу!
Чертов этот Ховик, заграбастал всю удачу. И почему бабы постоянно липнут к образинам-бугаям?
С огорчением и с негодованием Джо Джек вынул из спального мешка правую руку, скудно улыбнулся ей, и, пробормотав некую шайенскую поговорку насчет того, что «старые женки — самые лучшие», пустил движок в ход, стараясь припомнить наилучших, с кем чего имел.
Джудит смотрела на Ховика и думала: «Не знаю, люблю ли я его так, как принято любить у людей, но если Дэвида мне вернуть не удастся, я не хочу больше отпускать Ховика от себя! Когда он рядом, мне не страшно, а я уже так устала бояться! Франклин Рузвельт, Господи Боже мой, что за нелепое имя, как вообще все это нелепо — возможно, тот гадкий старик прав, и род людской сам по себе нелепица. Я уже не знаю, что и о чем мне думать.
Ну а сама-то сейчас разве не трясешься — вон куда вляпалась? Что, если на самом деле выручим Дэвида — что ты ему скажешь о Ховике; а Ховику про Дэвида что? Сама-то куда деваться будешь? Нет, думать думаю, а сама все равно чувствую себя более-менее спокойно. Может, потому что просто не очень верится, что кто-то из нас завтра останется в живых… Но если Дэвид жив, то пусть живет, а если умер, то тогда пусть полностью; я же не вынесу, если его изувечили, или покалечили, или свели с ума…».