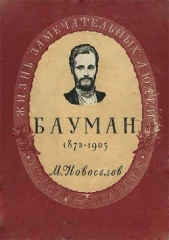Грач - птица весенняя

Грач - птица весенняя читать книгу онлайн
Эта повесть — историко-библиографическая. Она посвящена жизни и деятельности Николая Эрнестовича Баумана (1873–1905) — самоотверженного борца за дело рабочего класса, ближайшего помощника В.И.Ленина в создании и распространении первой общерусской марксисткой газеты «Искра»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она прикрыла глаза проходя.
Щелкунчик на окне. Сигнал опасности. Знак, что в квартиру нельзя входить.
Родные! Все-таки успели поставить. Теперь — пусть жандармы ждут. Хоть неделю. В этот капкан никто не попадется. Кто знает адрес, тот и Щелкунчика знает. Любимого Щелкунчика Грача. Он сказал как-то: еще в Киеве сторожил его Щелкунчик. После побега. И не выдал: усторожил, хотя Грач две недели прожил в городе после побега-под самым носом охранного…
Она прошла и вернулась. Мужчина на скамье наигрывал томно и сладко. Козуба пил квас у киоска, цедя его медленно, сквозь усы. Он расплатился, завидев ее издалека, дал пройти, догнал и, поравнявшись, сказал голосом спокойным и твердым:
— Провезли… Видела?
Ирина прошептала:
— Видела. И на окне Щелкунчик. Значит-взяли наверно. Как же мы теперь без Грача?.. А, Козуба?
Козуба ответил раздумчиво:
— Трудно будет, дело безусловное. Однако будем вертеться.
Глава XIV
ОПЯТЬ НОВОСЕЛЬЕ
С особым чувством перешагнул на этот раз порог тюрьмы Бауман: оказаться сейчас выброшенным из работы — худшая тяжесть, какую только можно в жизни придумать. И еще оттого, вероятно, что в тюремной конторе, пока выполнялись формальности, он узнал из хвастливого разговора приведших его охранников с дежурным тюремщиком, что в ночь на сегодня взято больше пятнадцати человек все "ленинское бюро", как выразился жандарм. Если это так (а это наверное так), опять затормозится работа, откроется широкое поле для пачкотни меньшевиков. Им только шаг еще шагнуть — совсем станут легальными. Правительство вовсе перестанет их трогать. Оно и сейчас уже начинает понимать, что меньшевики ему скорее на пользу и что окончательно приручить их будет нетрудно. Сорвут они революцию, дадут, как столько раз бывало в истории, на пролетарской крови утвердить буржуазную кабалу. А тебя сгноят за решеткой, в тюрьме…
И тюрьма на этот раз была крепкая. Не как в Киеве, не как в Воронеже или Уфе, или в тех пересыльных, по которым его гнали с этапа на этап в годы прошлых заключений. Здесь сразу было видно, что тюрьма, выражаясь тюремным, здешним языком, "завинчена до отказа". Не уйти отсюда. Может быть, от этого, от мысли о невозможности побега, и боль на сердце?
Нет. Наоборот. От боли на сердце — мысль о невозможности побега. Потому что… почему, собственно, отсюда нельзя бежать?
Коридоры, переходы, сторожа, гулкий звон железа под ногой… Ведут куда-то далеко и высоко. "В особую". Это слово он слышал, когда имя его вписывали в приемочную толстую книгу. И в память запала улыбка дежурного, когда он шептался с жандармским офицером, лично «сдававшим» Баумана, о мерах его содержания:
— Уконтентует, будьте уверены!
И, тряся небритой жирной щекой над грязным воротничком чиновничьего своего кителя, что-то еще долго шептал тюремщик на ухо ротмистру, и губы ротмистра всё шире и шире расползались улыбкою:
— Вот это действительно номер!
"Уконтентует". Дикое слово. Ясно, что его ждет какая-то особенная мерзость. Карцер? Нет. Это-обыкновенное дело. Карцер не стали бы скрывать. И не стали бы так подхихикивать. Что-нибудь хуже.
При обыске здесь, в тюрьме, сняли подтяжки. Он удивился: нигде никогда не отбирали ни носовых платков, ни подтяжек. А здесь — взяли.
— Почему?
Дежурный весь скривился в злорадной улыбке:
— А вдруг — вы повеситесь!
Опять коридор. Надзиратель, ведший Баумана, сдал его другому, дежурившему у входа. Они пошептались, и Грач увидел, как у дежурного удивленно поднялись брови. Он переспросил:
— В сорок третью?!
Конвоир кивнул, зашептал опять. И опять у обоих поползла по лицу та же, что внизу была, в конторе, у тех, гаденькая и злорадная улыбка:
— Вот оно что!..
Надзиратель загремел связкой ключей, выбрал один и пошел к дальней двери. Отпер. При тусклом свете высоко под потолком мигавшей скупым желтоватым накалом электрической лампочки Бауман увидел тесную, серую, масляной краской окрашенную каморку, асфальтовый пол, стол, табурет, койку, и с койки — из-под натянутого на лицо одеяла-два темных и блестящих глаза.
Глава XV
ДВОЙНАЯ ОДИНОЧКА
Бауман сделал шаг назад. Но надзиратель загородил дорогу:
— Завтра вторую койку поставим. А сегодня уж как-нибудь приспособитесь.
Бауман повел рукою вкруг камеры — она была тесна: с любого места можно было дотронуться рукой до любой стены.
— Вторую койку? Здесь и без нее повернуться негде.
Надзиратель ответил, не поднимая глаз (только пальцы пошевелились, перебирая связку ключей):
— Обойдетесь. На день убирать будем.
Он отступил за порог. Дверь захлопнулась, певуче щелкнул замок. Лежавший на койке сбросил одеяло и сел, спустив ноги в заношенных, грязных штанах.
Человек протянул огромную волосатую, когтистую руку и отрекомендовался отрывисто и гордо:
— Бланки.
Бауман поморщился, услышав имя французского революционера. Он очень не одобрял манеру иных подпольщиков-эсеров особенно-выбирать себе для партийных кличек громкие имена.
В имени-выбранном-всегда сказывается человек. Настоящий революционер прост. И имя себе он выбирает простое. Как Ленин выбрал. Чего проще? А имя уже сейчас на весь революционный мир звучит.
Человек сразу ему показался неприятным: грязью, тяжким запахом, космами нечесаных волос. Кличкой он стал еще более неприятным. Но обижать товарища по заключению не годится. Бауман прикрыл неприязненность усмешкой:
— Мне повезло, я вижу. Встречался я с Маратом, Наполеоном, Жоресом, Брутом, Лассалем, Одиссеем, Аяксом и Алешей Поповичем…
"Бланки" перебил, широко раскрыв рот. Рот был безобразный — огромный, как все в этом косматом седом старике: на губах рубцами застыли разрывы, на бледных деснах — ни одного зуба.
— А вы сами кто?
— Сидоров, по паспорту, — продолжал улыбаться Бауман. — Вы по какому делу содержитесь, товарищ?
Старик оглянул Баумана скептически:
— Я же вам русским языком сказал: я-Бланки.
— Кто вы? — спросил Бауман очень серьезно. — Я вас не знаю.
— Не знаете меня?! — возмущенно выкрикнул старик. — Меня знали Маркс и Энгельс. А вы не знаете? Извольте, я вам расскажу… Я родился в тысяча восемьсот пятом…
Помешанный. Вполне очевидно.
— …я трижды был ранен в уличных схватках в Париже в тысяча восемьсот двадцать седьмом. Я до сих пор ношу следы этих ран…
Он сбросил рубашку, и Бауман дрогнул: все тело было исполосовано, но среди следов плети действительно выделялись три белых, прямых и глубоких, словно сабельных, рубца.
— …я дрался на июльских баррикадах в тысяча восемьсот тридцатом, я поднял восстание в тысяча восемьсот тридцать девятом, и дальше, от заговора к заговору, на бессмертные баррикады сорок восьмого года — к Коммуне…
Старик поднял косматую голову, пристально всматриваясь в лицо Баумана, присевшего на табурет, у самой койки. Глаза вспыхнули темным и безумным огнем:
— Ты что так смотришь?.. Не веришь?
Он привстал и резким толчком навалился на Грача, облапив его широким размахом длинных и жилистых рук.
— Убийца?.. Подослали!.. Так нет же…
Бауман неистовым напряжением разомкнул руки, но отбросить от себя тяжелое смрадное тело он не мог, потому что не мог встать, а сидя — не хватало силы. Он соскользнул на пол с табурета, больно ударившись плечами и затылком. Старик, радостно урча, тянулся к лицу Грача, стараясь схватить Баумана за руки. Стукнул откинутый глазок: наверное, смотрит надзиратель.
Сейчас войдет.
Они продолжали бороться, почти без звука. Только дыханье. Опять стукнул глазок. Надзиратель отошел.
Внезапно, сразу, мышцы старика размякли. Бауман без труда вывернулся из-под лежавшего на нем, расслабленного теперь, ставшего бессильным и дряблым, тела.
Бауман привстал на колени, тяжело переводя дух. Сумасшедший запрокинулся навзничь, широко распахнув ворот:
— Вот мое горло… Где нож?.. Кончай! Ваша сила! Ваша проклятая сила!