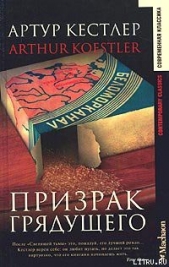Век вожделения

Век вожделения читать книгу онлайн
Самый остросюжетный роман Артура Кестлера. «Черная жемчужина» его творческого наследия. Необычный литературный опыт в жанре «альтернативной истории». Что, если бы советские войска не остановились на Эльбе? Что, если бы над Францией нависла угроза новой оккупации? Очередные коллаборационисты уже готовят проскрипционные списки.
Молодая американка пытается призвать на помощь Франции остальные державы «свободного мира».
Но страны-союзники по-прежнему готовы удовлетворять растущие аппетиты Советского Союза, - а «веселому Парижу», похоже, нет дела до того, что дни его веселья уже сочтены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это были его последние слова, и единственный раз, когда он упомянул о сыне. Слова эти как-то подействовали на солдат, у которых тоже, наверное, были сыновья. Они попинали его по коленям и в пах, но без особого рвения, Гриша стоял, широко расставив ноги, не выказывая ни боли, ни ярости; он всегда обращался с Федей, как с взрослым, и призыв в его глазах был адресован взрослому, Один из солдат, выругавшись и крикнув что-то о золоте, ударил его в челюсть прикладом винтовки. На этот раз Гриша упал; но падал он медленно и осторожно: сперва на колени, потом, после последнего, твердого взгляда, предназначенного сыну, его глаза закрылись, и обмякшее тело распласталось на полу. Солдаты постояли немного, не зная, что делать дальше, а потом выволокли его за дверь на веревке. Гришина голова болталась на плечах; казалось, что он мирно дремлет.
На следующий день у Фединой мамы случился выкидыш. За ней вызвалась присмотреть старая татарка в черной парандже, Федю же приютило соседское семейство, имевшее шестерых детей и не возражавшее против седьмого. Все дети спали вповалку на земляном полу. Феде досталось местечко под боком у двенадцатилетней девочки, обучившей его любовным играм, которые он счел не менее приятным занятием, чем сосание рахат-лукума. То ли на вторую, то ли на третью ночь его подняли и отвели к матери, умирающей от заражения крови. Она не узнала его и выглядела до того изменившейся и уродливой, лицо ее было до того серым и исхудавшим, что он был скорее напуган, чем потрясен. Понукаемый татаркой, он поцеловал ее влажный лоб, после чего его снова отвели к соседям, где подружка обвила его руками, испытывая одновременно страсть и жалость. Он уснул, прижавшись к ней, чувствуя тепло и уют. На следующий день Тамар скончалась; ее жизнь до мелочей повторила жизнь ее матери, которую тоже звали Тамар и которая тоже умерла от родильной горячки, подобно бесчисленным Тамар, ушедшим до нее.
Судьба Феди тоже сложилась, как типичная судьба пролетарского ребенка этих широт в годы революции и гражданской войны. Правда, ему повезло больше, чем другим бездомным и беспризорным детям, разбросанным Великой Переменой по всему континенту, подобно тому, как грязевые вулканы усеивают нефтяное поле своими пузырящимися выбросами. Он не стал сифилитиком, воровал лишь от случая к случаю и имел подружку, которая любила и нянчила его. Спустя несколько месяцев его спас дедушка Арин, которому удалось сбыть мастерскую с рук как раз перед тем, как Армения напала на Грузию, и тифлисские грузины стали убивать армян на базаре. Арин приехал, чтобы забрать внука и бежать с ним на север; как оказалось, Кавказ лежал слишком недалеко от Урфы, и воспоминания об Урфе снова мучили его. Злоба, алчность и попросту глупость непобежденных обезьян поглотила и вторую его семью; Федя был единственным, кто выжил, из всех тех, кому дали жизнь его обильные чресла. Он решил забрать его с собой в сказочную землю, впервые заставившую обезьян отступить. До этого он видел Федю всего один раз, когда тот еще был грудным младенцем, и сейчас был приятно удивлен ярким сходством между ним и его отцом. В нем не было ничего ни от армянских предков, ни от грузинского дедушки Нико; Азия полностью покинула его кровеносные сосуды, подобно тому, как ее не было и в венах Гришиных прародителей, если не считать слегка раскосых глаз — наследия давней примеси татарской крови.
Федя немедленно привязался к высокому старику с гордой осанкой, махорочным запахом и пронзительными близко посажеными глазами под нависшими белыми бровями; если бы не огромные ноги и мозолистые руки сапожника, Арин походил бы на аристократа. Они двинулись в долгий путь к столице, предвкушая захватывающее приключение; Федя даже забыл проститься со своей ночной подругой. Подобно деду и в отличие от матери он мог страстно любить, но забывал быстро и навсегда; он был наделен ценным даром почти автоматически выбрасывать из памяти все свои потери. Даже последнюю сцену прощания с отцом он помнил теперь довольно смутно: это было воспоминание не для каждого дня, слишком тяжелое, чтобы плавать на поверхности его мыслей. Достаточно было уверенности, что в момент, когда он, не мигая, встретил отцовский взгляд и понял все, что тот хотел ему сказать, он дал зарок, перед строгостью которого меркли обеты любого монашеского ордена.
Путешествие длилось несколько месяцев. Они двигались во влекомых быками повозках, в поездах, пешком, на крышах вагонов, набитых солдатами. Они несколько раз пересекали линии фронтов. У них не было никаких документов; на вопрос, куда они идут и с какой целью, Арин неизменно отвечал: «Я старый человек из Урфы, а этот сирота — мой внук». Раз или два их принимали за шпионов, и солдаты угрожали Арину, что расстреляют или повесят его; но он притворялся слабоумным и только повторял свое «я старый человек из Урфы, а этот сирота — мой внук», пока начальник — иногда офицер, иногда комиссар, — пораженный достоинством старика и не желающий обременять себя ребенком, — не приказывал им оставить бродяг в покое. Солдаты, как правило, делились с ними сдой или, по крайней мере, давали в дорогу хлеба. Иногда предлагали и мелочь, но Арин отказывался от денег. Федю редко посещал испуг, а по мере продвижения в глубь территории, занятой революционными армиями, он и вовсе забыл о всяком страхе и просил еду и приют, словно никто и не подумает ему отказать: ведь он был среди товарищей отца! Однажды они предстали перед комиссаром высокого ранга, говорившим так же спокойно, прямо и просто, как люди, наведывавшиеся к ним в Баку. Он задал Арину несколько вопросов, но тот все твердил свою заветную тираду. Тогда комиссар повернулся к Феде и сказал ему, словно они были закадычными друзьями:
— Скажи своему деду, чтобы он прекратил дурачиться. Федя без малейшего колебания ответил:
— Если бы он не дурачился, нас бы давно убили, как… Так что он привык.
— Убили как кого? — поинтересовался комиссар. Федя поднял на него глаза, помялся и сурово произнес:
— Как моего отца.
— Где убили твоего отца?
— В Баку, в Черном городе.
— Как его звали?
Федя ответил. Комиссар посмотрел на него с любопытством.
— Назови имена друзей своего отца.
Федя тем же суровым, твердым голосом назвал имена адвоката, врача и оперного певца.
— Так ты и впрямь сын Григория Никитина? — воскликнул комиссар.
Федя, сочтя этот вопрос излишним, промолчал.
— Он сирота, а я старый человек из Урфы… — завел было свое Арин, не будучи уверен, чем все это кончится.
Комиссар пристально взглянул на Федю. Федя смотрел на него набычившись, и комиссар не смог побороть улыбку. › — Ты знаешь, что твой отец был великим героем революции и что его имя войдет в историю?
— Нет, — ответил Федя, — он был мастером на нефтяных приисках Нобеля в Баку.
Они приехали в Москву весной 1920 года, когда Феде было восемь лет.
V Шабаш ведьм
Узнав о том, что ей звонил Жюльен Делаттр, Хайди, не мешкая, взялась за телефон. Прошлой ночью у нее не было желания снова видеться с ним или с кем-то еще из триумвирата. Сегодня же она не могла отвергнуть приглашения, особенно исходившего от нового знакомого. Она подчинялась предвкушению неожиданного и боязни упустить что-то настоящее; она металась по вечеринкам и приемам, подобно тому, как неизлечимый больной попадает в замкнутый круг шарлатанов.
Жюльен пробормотал нечто, отдаленно напоминающее извинение за вчерашнее, после чего осведомился, может ли он пригласить ее на ужин, а потом — «в одно очень»абавное местечко». Он обращался к ней по-английски, как и прошлой ночью в такси, и его тщательное произношение снова напомнило ей говорок сестры Бутийо.
— Что за забавное местечко? — предусмотрительно спросила она.
— О, что-то вроде шабаша ведьм; очень необычно.
— Сомнительные ночные клубы уже стоят у меня поперек горла.
— Ночные клубы? Нет, дорогая моя, я предлагаю вам посетить митинг за мир и прогресс.
Она отметила про себя, что «дорогая моя» звучит несколько преждевременно, но, отнеся это на счет его французской крови, не стала возражать. Они прекрасно поужинали в ресторане, который выглядел весьма дешевым заведением, но на поверку оказался достаточно дорогим. Публика состояла из тучных пар буржуа средних лет, которые тоже выглядели бедняками, но сорили деньгами напропалую. За соседним столиком одна такая пара с суровой сосредоточенностью поглощала пищу. Муж выглядел, как преуспевающий мясник в воскресном облачении, однако жемчужная булавка в галстуке и золотые запонки заставляли предположить, что перед ними — мелкий промышленник или, по крайней мере, адвокат. Он заткнул салфетку за воротник и, поедая одно за другим три блюда, не обмолвился с супругой ни единым словом. Супруга тоже была в черном; ее неправдоподобно-огромные груди вздымались вверх, подпираемые корсетом, подобно готовым взмыть в воздух воздушным шарам; ей не стоило бы никакого труда опереться о них подбородком. Лица обоих потемнели от натуги; женщина то и дело вытирала мокрые губы салфеткой, а мужчина издавал свистящие звуки, расправляясь с застрявшими между зубами кусочками пищи; больше никаких звуков от их стола не доносилось.