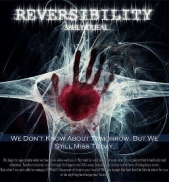Лёд (ЛП)

Лёд (ЛП) читать книгу онлайн
1924 год. Первой мировой войны не было, и Польское королевство — часть Российской империи. Министерство Зимы направляет молодого варшавского математика Бенедикта Герославского в Сибирь, чтобы тот отыскал там своего отца, якобы разговаривающего с лютами, удивительными созданиями, пришедшими в наш мир вместе со Льдом после взрыва на Подкаменной Тунгуске в 1908 году…
Мы встретимся с Николой Теслой, Распутиным, Юзефом Пилсудским, промышленниками, сектантами, тунгусскими шаманами и многими другими людьми, пытаясь ответить на вопрос: можно ли управлять Историей.
Монументальный роман культового польского автора-фантаста, уже получивший несколько премий у себя на родине и в Европе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А вы бы хотели — как? Без власти? Без закона? Да вы у нас анархист!
Сразу же вспомнилась ссора в тайге между доктором Конешиным и Herr Блютфельдом. Раздраженно покачало головой.
— Нет! Должен быть порядок и сила для защиты перед теми, что намереваются нас поработить. Но не может быть никакой державы, никакой власти, что с земных тронов диктовала бы, каким должно быть добро и зло — ничто существующее не должно стоять над человеком.
Господин Порфирий лишь сердечно рассмеялся.
— А вот тут вы в белый свет, как в копеечку! Ученый логик! Государство и не-государство! Власть и не-власть! Свобода и не-свобода! Атлична! Вот когда вы придумаете, как подобные парадоксы реализовать, обязательно мне сообщите, обязательно воспользуюсь рецептом.
Господин Порфирий допил чай, извинился и отправился в туалет. Остыло, быстро сделалось холодным. В главном зале кафе накапливались очередные гости, даже не присаживаясь, обмениваясь приветствиями и сплетнями в небольших группках. Всего их было более сорока, все при животиках, хорошо одетые, с золотыми и тунгетитовыми перстнями на пальцах, с бриллиантами и пуховым золотом, демонстрирующие богатство, что в Европе показалось бы неприличным и совершенно вульгарным. Говор польской речи наполнил кафе. Затушило папиросу. На часах было без десяти двенадцать. Вот сейчас бы порцию тьмечи, подумало, как сейчас пригодилось бы теслектрическое динамо — заморозиться на этот час-два. Ведь если что странное в неподходящий момент стукнет в голову…
Вернулся Поченгло. Я-оно схватилось с места и захватило его отдельно, у стены между картинами.
— Как-то не было оказии, — начало сдавленным голосом, с глазами, обернутыми на акварельную панораму Байкала, — а ведь давно должен был это сделать: мне хотелось бы извиниться перед вами за свое поведение той ночью в Транссибирском Экспрессе. — И только высказав это, смогло вернуться взглядом к господину Порфирию.
Тот странно глянул из-под своих ястребиных бровей, светеневые отблески мелькнули в голубых глазах. Если и скрыло стыд, то не под маской безразличия — Поченгло явно размышляет сейчас над тем, откуда этот гнев, причем тут хмурная, враждебная мина на лице Бенедикта Герославского.
— Так?
— Прошу прощения. Не хочу, чтобы между нами оставалась хоть какая-нибудь обида.
— Я никакой обиды не держу, — осторожно ответил тот.
— Не желаю никакой обиды, поскольку вынужден просить вас о другой вещи, весьма для меня важной. Ведь вы бываете у панны Елены Мукляновичувны.
— Ах!
— О чем вы меня тогда спрашивали, вы же помните, сердечные дела и так далее. — Попыталось распутать на лице мимические узлы, но, видно, безуспешно. Во всяком случае, взгляд Поченгло выдержало, не мигая. — Дадите ли… дадите ли вы мне слово чести, что — в отношении панны Мукляновичувны — что вы думаете о ней… что ваши намерения… серьезны?
Тот замялся.
— А если и дам?
— Тогда вас благославлю. Но если нет, или же — если тут замерзнет ложь…
— Но почему тогда вы сами не… Ах, ну да, le Fils du Gel, c'est tres facheux [267]. Вы думаете ждать? До каких пор? Она уедет, а вы…
— Так как оно будет?
Поченгло приложил сжатую в кулак ладонь к сердцу.
Кивнуло.
— Это дьявольский договор, — сказал он, спустя какое-то время. — И это не договор в отношении женщины, хотя — двое мужчин и женщина, тут всегда черт замешан. Но вы прекрасно знаете, что я ничего более так не желаю, как Оттепели и изменений, освобождения Сибири. А после Оттепели — после Оттепели будет новый мир, и будут новые правды. И вот вы, заключаете договор о женщине — и уже знаете, о чем не станете уговаривать отца. Разве пристойно такое — продавать Историю ради женского шарма?
— Вы слишком долго живете в Краю Лютов. В мире Лета честь нам тоже ведома.
Тот снова глянул как-то странно.
— Но вы меня, пан Герославский, все же удивляете. Есть в этом какое-то безумие, следовательно — тайна. — Под серьезным взглядом он удержался от смеха, которым намеревался разрядить ситуацию. — Так вы об этом желали со мной переговорить в «Варшавском»?
— Нет.
Часы пробили полдень.
Пробило полдень, и сразу же все поднялись из-за столов, метрдотель вместе с паном Мышливским встал у двойной двери в глубине зала, первый из них повернул дверную ручку и согнулся в поклоне. За дверью заволновалась красная занавесь, он сунул в нее руку и отвел материал, указывая путь. Гости подходили по очереди, обменивались парой слов с Мышливским и исчезали за карминовыми складками. Пошли братья Гавроны, пошел господин Поченгло, пошел пан Белицкий. Отметило редактора Вульку-Вулькевича, проходящего в двери после краткого обмена словами с доктором права. Вскоре, если не считать купца Горубского и графомана Леверы, в зале некого не осталось. Облизало губы, провело пальцами по покрывающей череп щетине (теперь уже свербела кожа на голове) и подошло решительным шагом. — Да? — ободряюще улыбнулся пан Мышливский. — Бенедикт Герославский. — Бенедикт Герославский, — повторил тот, словно должен был услышать фамилию из собственных уст. Следовало ли сказать что-то еще? Необходимо ли пройти испытание с первого раза? По каким критериям Мышливский отделяет тех, что входят, от тех, что войти не могут? Тут действует ритуал; обязует традиция. Но ведь пан Войслав никаких инструкций не дал. Представьтесь ему вежливо и следите, подаст ли вам руку. Тем временем, привратник стоял молча, не подавая каких-либо жестов, явно чего-то ожидая. Поклониться ему еще раз? Щелкнуть каблуками? Протянуть правую руку? Ответить — обязательно. Но что сказать? Что меня сюда привел Войслав Белицкий? Что я сын Отца Мороза? Сказать, что не знаю, чего сказать? Может быть, просто следует попроситься. Но тогда Белицкий должен был предупредить! Стояло, словно каменная статуя, пялясь с не очень-то приятным задором прямо перед собой, даже сдерживая дыхание, и только теслектрический ток, струя жгучей минус-тьмечи двигалась под поверхностью тела, в жилах и по нервам. Тлик-тлак, тлик-тлак, чмокали развеселившиеся часы. Метрдотель делал вид, будто и не смотрит на разыгравшуюся перед ним сцену, обернувшись вполоборота, с пальцами на красных драпри. С каждой секундой нарастало принуждение — та внутренняя сила, что приходит снаружи и не имеет с человеком ничего общего — принуждение безличное, натягивающее мышцы лица, по-собачьему растягивающее рот, разжигающее огонь под кожей. Вот сейчас я-оно осклабится просящей прощения улыбочкой, вот сейчас стыд возьмет меня под свой контроль. Стояло, словно статуя. Пан Мышливский протянул раскрытую ладонь. И только через какое-то время отреагировало, хватая ее и резко пожимая. Метрдотель сделал приглашающий жест. Вошло в мягкую красноту.
За ней была узкая, спиральная лестница, ведущая на этаж выше, а у ее вершины — другие двери, раскрытые настежь, и уже только за ними — обширный клубный зал, по величине такой же, как и зал кофейни ниже. Центральное место здесь занимал стол, составленный в виде буквы «Т», за которым уселись гости — члены клуба. Посредине поперечной части стола, на фоне окон, выходящих на улицу Главную, сидел старец, обезображенный многочисленными обморожениями, с приставленной к уху трубкой — наверняка, сам пан Цвайгрос. Так же отметило там господ Поченгло, Грживачевского и Собещаньского. Более десятка человек заняло места на стульях, оттоманках и лавках, размещенных под стенками, между горшками азалии, араукарии и рододендронов. Живые домашние растения — в Городе Льда немалая роскошь. Присело под белыми цветами, рядом с Вулькой-Вулькевичем. Хотелось сразу же задать ему вопрос, но пожилой редактор, отведя авторучку от страниц блокнота, прижал ее к губам, приказывая молчать. Действительно, никто ничего не говорил, слышен был только посвист ледяного ветра из-за окон да приглушенное туманом эхо барабанов. Глянуло на стену над головой — там висел портрет мужчины в костюме семнадцатого или восемнадцатого века. И вообще, зал был украшен множеством картин, как портретами, так и пейзажами сибирской природы или жанровыми сценками на ее фоне. Прочитало гравированные надписи на латунных табличках рам ближайших картин: Иоахим Лешневский, Фердинанд Бурский, Леопольд Немировский, Генрик Новаковский, Станислав Вроньский. Может, это были признанные художники, но, может, соответствия Леверы в сфере кисти, трудно было сказать. Тождества лиц на портретах и не пыталось угадывать. Не слишком выкручивая шею, прочитало подпись на табличке справа: «Повелитель Мамонтов — Кароль Богданович — 1864–1922 — Его уголь, Его холодное железо». С портрета глядел приземистый, седеющий мужчина с короткой шеей, массивной головой, крепко сидящей на плечах, с подавшимся назад лбом, с усиками и остроконечной бородкой над жестким белым воротничком и черным галстуком.