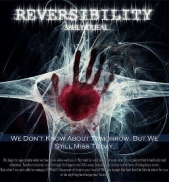Лёд (ЛП)

Лёд (ЛП) читать книгу онлайн
1924 год. Первой мировой войны не было, и Польское королевство — часть Российской империи. Министерство Зимы направляет молодого варшавского математика Бенедикта Герославского в Сибирь, чтобы тот отыскал там своего отца, якобы разговаривающего с лютами, удивительными созданиями, пришедшими в наш мир вместе со Льдом после взрыва на Подкаменной Тунгуске в 1908 году…
Мы встретимся с Николой Теслой, Распутиным, Юзефом Пилсудским, промышленниками, сектантами, тунгусскими шаманами и многими другими людьми, пытаясь ответить на вопрос: можно ли управлять Историей.
Монументальный роман культового польского автора-фантаста, уже получивший несколько премий у себя на родине и в Европе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одноухий ничего не ответил — я глянул, отвел глаза — и только тут до меня дошло, что пепеэсовцам [27] и пилсудчикам отец нужен по тем же самым причинам, что и царским.
Я огляделся по улице; ночь только начиналась, по тротуарам все еще пробегали пешеходы, по заледеневшей мостовой проезжали сани и телеги. Я отступил к затененным воротам.
— Зима за мной следит.
— Уже нет.
Я отступал до тех пор, пока не вошел в первый внутренний дворик дома. Маленький чахоточник остался перед воротами — худенькая фигурка в полукруглой раме темного проезда. Он глядел на меня из-под кривого козырька фуражки, сунув руки в карманы длинного пальто.
— Передай. Он будет знать.
— А может ты агент охранки!
— Ну, не пугайссся.
Потом он натянул фуражку на отсутствующее ухо и ушел.
Зыга еще не вернулся. Я погрыз колбасы с хлебом, запивая холодным журом. Конверт был заброшен на кучу книг, прямоугольник чисто-белого цвета притягивал взгляд. Сам же я спустился к Бернатовой, купил ведро угля и разжег печку. Частично убрав со стола беспорядок, я открыл папку Альфреда — но тут же мне вспомнилось незаконченное письмо к панне Юлии, я обнаружил его вложенным в последний номер «Mathesis». Так, теперь ее нужно будет убедить в чем-нибудь совершенно противоположном… Я подышал на ручку, смочил перо в теплой слюне. И забудьте, что я тут написал выше. За это время произошли события, делающие невозможным исполнение наших планов до конца, как мы их задумали. Я выезжаю, и меня не будет в Королевстве с месяц, а то и больше. Мой отец, которого вы не знаете, хотя, как подсказывает мне память, панна встречала его раз или два, когда мы были еще детьми… Вилькувка, одна тысяча девятьсот пятый или шестой год, ранняя весна, зелень свежих трав и леденистая утренняя роса на яблонях в саду, белые облака на небе и гладкие ломти земли, земли настолько черной, что прямо фиолетовой; весна, и на рассвете расчирикавшиеся птицы за окнами, молоденькие паучки в трещинах деревянных стен, в воздухе запах свежего масла и свежего навоза, когда коровы выходят из хлева; и что еще: запах детства, когда я просыпаюсь с горячим солнцем на губах, под чистым льняным полотном, на гусиных перьях, а двор уже трещит, скрипит и постанывает, и стреляют старые доски под ногами Греты, когда та поднимается к нам на второй этаж, чтобы разбудить детей и проследить за утренней молитвой, а за окном — дынь-дзынь, колодезная цепь, кудах-тах-тах-га-га-га, утки, куры и гуси, а временами — короткий лай пса, покрикивания батраков, стук копыт и скрип повозки, когда приезжают гости.
…Приехали двоюродные родичи Тржцинские и дядя Богаш, и родственники матери из Западной Пруссии, и множество народу, которого никогда я раньше не встречал, пока поместье не превратилось в чужой дом, заполненный посторонними людьми, незнакомыми голосами, где все были одинаково и хозяевами, и гостями. В большом доме и домике лесника крутились целые семьи, с детьми, слугами, собаками и детьми слуг. Поначалу все это было таким возбуждающим — чтобы увидеть что-то новенькое, обычно необходимо ездить на ярмарки, в город, а тут новое приезжало к нам; люди, которых мы не знали, одежды, которых не видели, язык, который не слышали — ни польский, ни немецкий, ни французский или же латынь; как-то раз в грохоте и вони под поместье подъехал автомобиль — это уже был праздник, мы с благоговением гладили блестящую carosserie [28]; Андруха прогонял нас, крича с крыльца… Но через пару дней это уже наскучило, победила усталость от постоянного напора развлечений; я уже не различал родственников, не считал гостей — то ли они только что приехали, то ли возвращались с прогулки на озеро; я валялся на самом верху сеновала, поглядывая на двор через дырку от сучка, и засыпая так в прохладном сене, пока под лестницей не появлялась мать, которая всегда знала, где мы находимся, и это уже было время мыть руки и садиться ужинать.
…На неделю-две с родственниками приехала и Юлька; мы даже игрались вместе. Не помню, как она тогда выглядела; сама говорит, что была тогда неуклюжим ребенком — зато помню, что пани Алисия всегда исполняла ее даже самые мелкие капризы. Помню, как спрашивал я у матери, не могла бы Юлька остаться с нами подольше — насколько легче стали бы уроки, если бы гувернантка хоть отчасти прислушивалась к нашим просьбам. По-видимому, мать сохранила это в памяти как доказательство моей к Юльке симпатии.
…Эмилька тогда еще была жива, она таскалась за нами повсюду, а за ней ходила хромая такса Мигалка — они останавливались подальше и присматривались к нашим забавам огромными, влажными глазами. Сад, в особенности, годился для игр в прятки, в индейцев и ковбоев, в войнушку. Нас гонял только сгорбленный до земли татарин Учай, который всякий день обходил рощи, обнимая стволы деревьев и лаская гибкие веточки, только-только появившиеся листочки. Старшие дети, дети приезжих жестоко передразнивали его. Он грозил им березовой палкой. Для Эмильки у него в кармане всегда были конфеты-тянучки; Юлька это подсмотрела и тут же начала подлизываться и ласкаться, строить голубенькие глазки и покусывать косички — пока старик ее не прогнал. Она целый день потом дулась.
…Отец появился лишь тогда, когда совещания рода уже шли к концу, когда часть гостей уже вернулась к себе домой. Склонившись над кроватью — тень в лунном свете — как-то вечером он шепнул мне: «Болек, я приехал!» — и помню, что целую ночь потом я не мог заснуть, лежал с широко раскрытыми глазами, вслушиваясь в протяжное дыхание дома и шепот ночных насекомых. Отец приехал! Увидел я его утром, гневно кричащего на собравшихся в салоне родичей; мы подглядывали через окно, пока мать нас не прогнала. Не помню уже, что я помнил ранее — то ли отец отличался от представления об отце, или же он слился с ним в одно в моей памяти, так что никакие другие черты уже не могли его изменить, в сорочке или сюртуке, с бородой или без нее, кричащий или смеющийся, здоровый или болезненный, тот или иной — Отец. Поскольку мы видели его так редко, раз в несколько месяцев, насколько же сильнее я должен был помнить свое представление о нем. Если бы он не появлялся вообще, лишенный тела, голоса, лица и черт характера, был бы он менее правдивым? Существование вовсе не является обязательным атрибутом хорошего отца.
…Перед обедом мы еще все вышли в сад, там разделились на группки, внутрисемейные фракции, которые постепенно разошлись среди деревьев. Мы, дети, естественно, понятия не имели, о чем взрослые так заядло спорят. Хватало и угроз кулаками, вздымания рук к небу, упоминания имени Господня всуе и даже рукоприкладств, когда то один, то другой наскакивал на оппонента, настолько неспешно, чтобы другие усатые и бородатые дядья могли схватить и остановить сжатую в кулак десницу. Они расходились и сходились. Грета и Михалкова приносили из дома холодное молоко и лимонад, охлажденное в колодце пиво и и саму колодезную воду. Потом родичи прохаживались среди деревьев с кружками и стаканами, и даже фарфоровыми чашками, когда другой посуды уже не хватало.
…Я прятался за яблонями, выглядывая из-за стволов и веток — и подглядывал за ними, подслушивал, индеец в белых башмачках и соломенной шляпке, ковбой с гладко прилизанным проборчиком. Это тоже было игрой: я хихикал под нос, перебегая от яблони к яблоне. Засмотревшись на жестикулирующего трубкой отца, я чуть не столкнулся с Учаем. Тот хотел схватить меня за воротник, я удрал, теряя шляпу — но убежал не в ту сторону. — Чьи это короеды! — не сдержался отец. — Даже здесь покоя нет! — Собственного сына не узнаешь? — Болек? — Бенедикт, — хрипло поправил его старый Учай. — Ну да, так, — буркнул отец, усмехнулся и взъерошил мне волосы. Я поднял голову, широко улыбаясь в ответ. Но отец глядел уже куда-то надо мной, на дядю Богаша, который что-то спорил про цены на землю, аренду в Варшаве, и что так было бы лучше для всей семьи, и что все не могут страдать по причине одного aufbrausend Dummkopf [29]. — Не мешай папе, — оттащила меня мать. Я послушно встал возле Эмильки. — Болек! — хихикала малышка, показывая на меня пальцем. — Болек! — Веселящаяся такса тоже вывалила длинный язык. Пнуть эту дурную псину! Оборвать у Эмилии ее золотистые кудряшки! Толкнуть ее в навозную яму! Придушить! А если этого сделать нельзя — сбежать отсюда, пока весь не сделаюсь красным, пока не расплачусь. А если нельзя — Болек! — смеялся я вместе с сестричкой. — Болек! — смеялись мы — над чем? Я уже не мог удержаться, принцип стыда был сильнее злости, сильнее, чем…